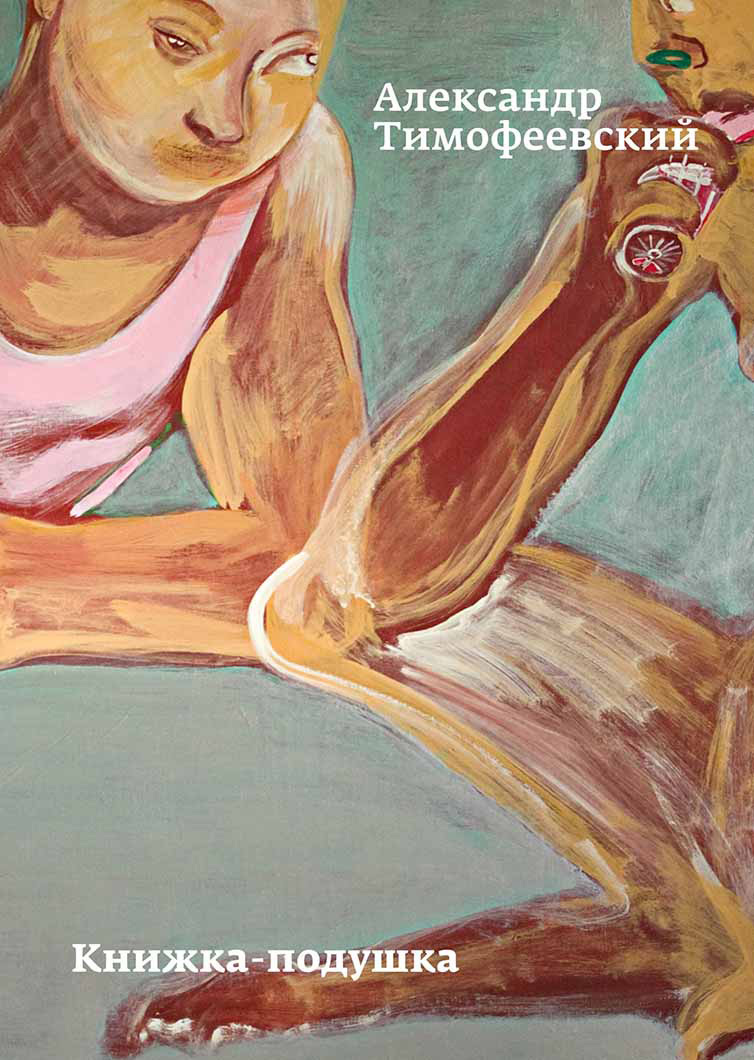образцов.
Используя элементы соцарта, Соловьев эстетизирует свою зимнюю Ялту и таким образом уходит от анекдота. Он множит условности и вводит в действие лилипутов. Крашеные, ряженые, игрушечные лилипуты, поющие зимой на летней ялтинской эстраде для двух с половиной человек «Сильву» («Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?»), включают в себя и ту певицу с «Надеждой», но есть в них и нечто большее.
В лилипутах с их крашеным, ряженым, игрушечным улыбающимся счастьем — вся тоска зимней Ялты, где постоянно длится один и тот же без конца повторяющийся день. Дешевые, по два рубля, койки в облупившихся бутафорских домах и шикарные апартаменты в дорогих гостиницах. Тир. Ресторан. Ипподром. Ботанический сад. Обшарпанная императорская красота. Шторм. И на берегу тошнит, как на палубе, — то ли от тоски, то ли от скуки, то ли от ненависти:
И матрос, на борт не принятый,
Идет, шатаясь, сквозь буран.
Все потеряно, все выпито!
Довольно — больше не могу.
А берег опустелой гавани
Уж первый легкий снег занес.
В самом чистом, в самом нежном саване
Сладко ли спать тебе, матрос?
В фильме Сергея Соловьева эти стихи Блока, разумеется, не звучат. Его рыночный коврик соткан из других текстов. Например, таких:
Недавно гостила в чудесной стране.
Там плещутся рифы в янтарной волне,
В тенистых садах там застыли века,
И цвета фламинго плывут облака.
Или таких:
Под небом голубым есть город золотой
С прозрачными воротами и яркою звездой.
А в городе том сад, все травы да цветы,
Гуляют там животные невиданной красы.
Примечательна словесная перекличка этих двух текстов. Первый — А. Понизовского и Ж. Агузаровой — положен если не на роковую, то в любом случае на современную музыку; второй — А. Волохонского — на лютневую, XVI века. Первая песня была популярна несколько лет назад среди неформалов, вторая — на полтора десятилетия раньше среди «неформалов» начала семидесятых годов, которые в ту пору назывались иначе: «московско — питерской левой богемой». Но в обеих песнях поется об одном и том же: о «чудесной стране», находящейся далеко за пределами зимней Ялты, о той, которую зимняя Ялта никогда не сможет оккупировать.
Во второй песне эта тема выражена более талантливо, но менее демократично.
«Под небом голубым есть город золотой» — лубочный образ рая. «Животные невиданной красы», которые гуляют в том городе, вовсе не экзотичны и уж совсем не случайны:
Одно, как желтый огнегривый лев,
Другое — вол, исполненный очей.
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.
В средневековой традиции лев — символ св. Марка, вол — св. Луки, орел — св. Иоанна.
А в небе голубом горит одна звезда,
Она твоя, о ангел мой. Она твоя всегда.
Кто любит, тот любим. Кто светел, тот и свят.
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.
Ангел — символ св. Матфея. Таким образом, песня — о той встрече, что ждет Матфея — ангела, Матфея — мытаря на небесах, о награде за мытарство, которая не может быть дарована на Земле.
Наверное, не нужно объяснять, что и в первой, и во второй песне тоска по нездешнему миру — от полного неприятия мира здешнего. Эта тоска у Волохонского и Агузаровой одна, потому что оба они жили в одну эпоху, хотя и в разные ее периоды. Путаница в «роковом» слое «Ассы», за которую так корили Соловьева, представляется мне принципиальной. Это не путаница, а обобщение, попытка свести в одном образе то, что наиболее существенно: абсолютное, даже трансцендентное неприятие брежневского истеблишмента. Лабухи — не лабухи, рокеры — не рокеры, семидесятники — восьмидесятники, — не суть важно. Важно, что единственной альтернативой зимней Ялте с ее на века сложившимся бытием, кастрированным бытием без Будущего, могло быть только инобытие, только Будущее, пусть ирреальное. Мечта о рае — это мечта о Будущем, которое должно все — таки наступить. Песня о чудесной стране и песня о городе золотом, как и сны Бананана, — не бегство от реальности, а, наоборот, — бегство за реальностью, хоть какой — то реальностью, хоть недостижимой:
В самом чистом, в самом нежном саване
Сладко ли спать тебе, матрос?
В постмодернистской эстетике, густо замешанной на киче, в «игротеке» (вспомним счастливое выражение Ст. Рассадина), где любое утверждение грозит обернуться своей противоположностью, может быть все что угодно — любая грубость, любая безвкусица, все, кроме романтизации без иронии и психологизма без берегов. Недостаток «Ассы» в том, что ей не удалось избежать ни того ни другого. Критики, не принявшие «Ассу» за отсутствие в ней психологизма, дружно хвалили сцены в милиции и в тюрьме — лучший довод в пользу того, что они лишние. Так, например, Ст. Рассадин писал: «В фильме, конечно, есть и взаправдашность — горькая, жесткая, даже жестокая. Сцена в милиции, где кулаками подсаженного и подначенного уголовника юношу наказывают за неположенное мужскому полу ношение серьги. Или лица зрителей на спектакле театра лилипутов, жадное, потешное любопытство, с каким пялятся на маленьких людей, эксплуатирующих ради заработка свою телесную аномалию.
И т. д. В такие минуты сердце сжимается — больно, однако и благодарно. Но странное дело: эту жалость, момент сострадания, едва подарив, тут же и отнимают».
Лица зрителей на спектакле лилипутов и вправду хороши, и вправду нужны. Этот мгновенный проброс в «нашу жизнь» — всего лишь смена условностей, та же игра, только с включением чужеродного материала, — распространенный художественный прием: им любил пользоваться, например, Бунин. «…А он глядел живыми сплошь темными глазами в зеркала богатой спальни деревенской на свой камзол, на красоту чела, изысканно, с заботливостью женской напудрен рисом, надушен, меж тем как пахло жаркою крапивой из — под окна открытого.» — здесь «жаркая крапива», нарочито прозаическая, занижая, заземляя откровенно стилизованный «мирискуснический» образ, на самом деле для него, для этого образа, создана, только ему подчинена и на него работает. Зрители на спектакле — удар «жаркой крапивой». Такой же удар — приезд сына к овдовевшей лилипутке, короткая и великолепная сцена. Огромный рядом с матерью, взаправдашний, «с обратным билетом в кармане», рябой солдат возвращает нас в реальность, в обыденность смерти.
Вся сила этих сцен