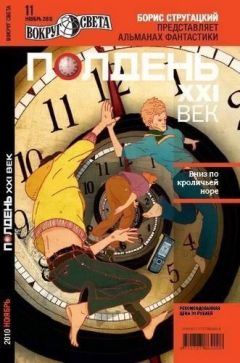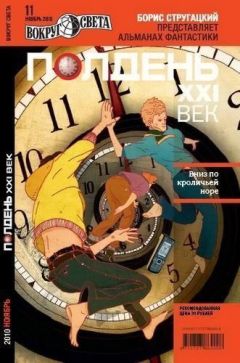Появляется и пропадает гул кухонной вытяжки.
Я не успеваю ни о чем подумать, как с тем же гулом Салов возвращается. Морщится, словно что-то в зале ему не понравилось. Ставит на стол бутылку водки. Откуда-то появляются рюмки, с глухим стуком вбиваются в столешницу.
— Накатим? — спрашивает Салов, разливая.
— А как же! — говорю я.
И мы накатываем. Сначала по первой. А потом по второй. После пятой по счету рюмки я обнаруживаю себя натурально плачущимся Салову в нагрудный кармашек пиджака. И называю его почему-то Федор Михайловичем. Хотя ну какой, какой из него Федор Михайлович? Ох, господи, за что ж ты меня так?
— Эх, Федор Михайлович, — скулю я, — а я ведь сегодня двух человек приговорил. Одного так, а другого до смерти.
— Да ты негодяй! — тормошит и пьяно вглядывается в меня Салов.
— Нет, я совесть. Просто совесть.
— Да? — Салов икает. — Бородатая ты какая-то совесть… Впрочем, я тебя все равно люблю.
Я отмахиваюсь от поцелуя.
— Нет, ты послушай. Может, я и не совесть, может, я только посредник и не все могу выразить, но если я, например, подойду и скажу, что… ну, допустим, срочно позвони… ну, кому-нибудь там позвони… сделать усилие и поверить мне можно?
— Можно. Я вот тебе сразу поверил.
— Ты — да! За это надо…
Шестая рюмка вызывает мягкий, волокнистый туман. Лицо Салова удлиняется, расползается по сторонам и теряет нос. А мне все равно.
— Я вот теперь днем и не выхожу. Господи, что я там потерял, днем? Один раз… на всю жизнь запомню, как один раз еще по неопытности вышел. Ага, за хлебушком. Поперся… А там бабульки стоят… — меня передергивает от воспоминания. — Я сразу и вырубился. Все равно, что шутиха в голове ахнула. Открываю глаза — одна из сердоболиц мне ватку с нашатырем под нос сует. Как раз чуть не в глаз тычет. Сбоку — еще две. А дальше — еще. И у каждой, знаешь, за всю жизнь такого накопилось. Я и встать не могу. Слова только под веками горят. Какие-то доносы, еще в НКВД. Кто-то ребенка ошпарил. Кто-то внучку запер в шкафу, так что она потом… Кто-то зятя с дочкой развел… Я им сказать пытаюсь, а они меня таблетками кормят. Никто даже всерьез не воспринимает. Бредит, мол, молодой человек. Обидно. А потом думаю, и ладно. Каждому свое. Вот такой я гад.
— И скольких ты вот так вот… облагодетельствовал?
— Три тысячи вося… восемьсот пятьдесят душ.
— Внушительная цифра. А тех, кто… ну… тебя послушал…
— Меньше сотни. Девяносто семь.
— Мало нас, — печалится Салов. Набулькивает в рюмки. — За нас!
— Знаешь, — продолжаю я, опрокинув свою порцию в рот, — а потом как-то само собой отпал транспорт. Я же сначала и не понимал ничего. Сидишь себе у окна, вдруг — хлоп! — рядом садится… А мне уже тяжело, у меня в голове щелкает, и я уже будто бы и не я. Через неделю, обещаю соседу этому, реанимация. А он ревет: «Что?! Я тебе сейчас устрою реанимацию!». Только, оказывается, меня побить нельзя. Попытаться можно, а побить… Сосед себе в челюсть так кулаком и закрутил. Удивлялся потом, наверное. И сегодня тоже… — я усмехаюсь, давлю горький ком в горле. — Ну и работа за транспортом тоже отпала… И улицы. Теперь вот скитаюсь по ночам. Осторожно так скитаюсь. Хотя и ночью уже находят. Словно я магнит какой. Чувствую, придется спускаться в канализацию. Гордый г…нодав Лев Керумин, путешествие из Петербурга в Москву. Канализационные заметки. М-да. И ведь получается, что их грехи теперь на мне. Я их как бы отпустил. Не просто так, конечно. За плату. За индиви… — выговорить у меня не получается. — И взял на себя. Устал я, Салов. На первой сотне уже устал. К земле гнет. Раньше представлял, будто это рюкзак за плечами. С камнями. Теперь вот слонов представляю. Все веселее. И вообще, за что мне это, а, Салов? Будто на мне какой-то уж совсем страшный грех. И не помереть никак.
— Так, — Салов делает попытку подняться, — сейчас я тебе такси вызову…
В такси я стремительно трезвею.
Заполненный судками пакет обнаруживается в левой руке, в правой оказываются зажаты две сотни расплатиться. И посадили, и денег дали. Ох, Салов, Салов…
Над подголовником поблескивает кружком лысины водитель.
— А вы знаете, что у вас тут неподалеку сын растет? — тихо спрашиваю я, прикрывая глаза.
— Это где? — смеется водитель. Он слегка поворачивает голову. Мне становятся видны густые усы, оспины на щеке, приоткрытый рот с желтоватыми зубами.
Что его ждет? Пожалуйста: «Месяц. Инвалидность».
— На Песчаной. Вы ему нужны.
— Да? Ну-ну.
Автомобиль взревывает и прибавляет ходу.
Слон три тысячи восемьсот пятьдесят первый уведомляет меня в своем почтении и принимается карабкаться на вершину пирамиды. Каждое его движение отдается во мне хрипом.
— Что, худо? — в маленьком зеркальце на лобовом стекле всплывает участливо сведенная к переносице бровь. — Может, остановить?
Я дергаю щекой: не надо. Чего уж теперь…
— Знаешь, — неуверенно продолжает водитель, — когда-то на Песчаной… Нет, лет семь уже… Она же ничего…
Он качает головой, не решаясь поверить.
— Сын?
Я киваю. Так это и бывает.
— Девяносто восемь, — шепчу я.
— Чего? — не расслышав, оборачивается водитель.
— Нет-нет, все нормально, — успокаиваю его я, — мне просто легче. Чуть-чуть легче.
Слон три тысячи восемьсот пятьдесят первый срывается с пирамиды и, хлопая ушами, испаряется в неизвестном направлении.
Рассказ
Он отрешенно рассматривал выцветшие изодранные обои, темные следы от полок, когда-то висевших на стене, паутину в углах под потолком, испещренным грязно-желтыми пятнами. На полу валялись скорченные окурки папирос, возле перекошенной двери присохли к полу собачьи экскременты.
«Или шакальи», — обреченно подумал он, пересек пустую комнату и остановился у окна.
Окно слепо таращилось в утреннюю сырость. С высоты четвертого этажа видны были крыши сараев, палисадник с черными скелетами деревьев, скамейка, дорога, покрытая грязью. Выбоины в асфальте заполняла коричневая жижа. На тротуаре валялась безголовая кукла; голова покоилась в луже и бездумно смотрела в тяжелое серое небо. В помойке у скрюченного тополя рылась тощая собака. За сараями громоздились безликие дома, а дальше мир тонул в безнадежной серости — или и не было там никакого мира…
Он поежился, сел на пол у подоконника и обхватил руками колени. Потом снял шляпу, положил на облупленные доски рядом с собой, поднял воротник пальто и спрятал руки в карманы. Он ждал.
Когда-то давным-давно он сидел в этой или очень похожей на эту комнате, только тогда в ней стояли диван, круглый стол, покрытый клеенкой, в окружении венских стульев, этажерка с книгами и большой шифоньер, а с потолка свисала лампа под роскошным оранжевым, с бахромой, абажуром.
Тогда он писал письмо. Поставил точку, аккуратно вывел на конверте три крупные буквы «М», «Г» и «Б» и, заложив руки за голову, закачался на венском стуле.
…Потом, уже заняв освободившееся место своего арестованного начальника, он как-то возвращался из учреждения домой, зайдя по пути в гастроном и купив бутылку дорогого коньяка и баночку красной икры. Стоял чудесный, не жаркий еще майский вечер, на бульваре под липами сидели пары, смакуя пломбир. Он, молодой и здоровый, в новом сером двубортном бостоновом костюме и сером плаще, упруго и быстро шагал по усыпанной гравием аллее, помахивая портфелем и с наслаждением затягиваясь любимой «Герцеговиной флор». Из едва оперившихся кустов ему наперерез выскочила цыганка; на ее шее звенели побрякушки, и звон этот сливался со звоном трамваев. Он поморщился и приготовился оттолкнуть попрошайку.
Но цыганка не стала попрошайничать. Она засеменила рядом, довольно еще молодая, с выщипанными по-модному бровями и румянами на смуглом лице, подметая гравий немыслимой пестроты юбками.
— Пошла отсюда! — процедил он, не поворачивая головы, и швырнул окурок мимо урны.
А цыганка сказала внезапно тусклым голосом, совсем как в паршивых книжонках: «Бойся человека в сером пальто, ненаглядный», — и отстала, и затихло бряканье ее украшений.
Он только плечами передернул и продолжал шагать по бульвару, а вечером играл в карты с полковником-соседом, говорил комплименты его жене, а потом читал газеты на своем диване и жевал бутерброды с красной икрой.
…Жизнь текла своим чередом, кого-то снимали и кого-то назначали, полыхала война в Корее, покорно голосовал девятнадцатый съезд, хоронили Отца народов и шла ремилитаризация Западной Германии.
Он был высок и недурен собой, умел говорить, и не одна гражданка имела на него виды. Однако жениться он не спешил, все выбирал подходящую, а между тем водил на свой диван доверчивых машинисток и даже работниц искусства, обнадеживая их признаниями в любви.