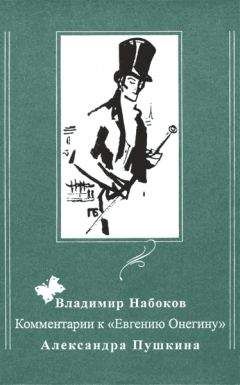Хотя эта реминисценция не пушкинская, любопытно сравнить петербургское утро Пушкина с утренним Лондоном в произведении Джона Гэя «Пустяки, или Искусство ходить по улицам Лондона» (1716), где есть молочница, записывающая мелом на дверях свой доход, «пергаментный грохот» барабана, разносчики, едущие экипажи, открывающиеся магазины и т. д.
9 Проснулся утра шум приятный. Аналогичная строка есть в «Полтаве» (1828), песнь II, строка 318: «раздался утра шум игривый». Ср. эти эпитеты с эпитетами английских поэтов, например, Милтона — «деловой гул людей» и Джона Дайера — «шум делового человека».
Вообще говоря, русское слово «шум» предполагает более длительное и однообразное воздействие, нежели английское. Оно означает также отзвук отдаленный и смутный. Это даже скорее гул, чем гам. Все его формы — «шум» (сущ.), «шумный» (прилаг.), «шумящий» (причаст.), «шуметь» (гл.) — великолепно звукоподражательны, чего лишены английские слова «шумный и шуметь». «Шум» обретает ряд оттенков в сочетании с разными подлежащими: «шум города», «шум лесов», «шумящий лес», «шумный ручей», «шумящее море», «глухой шум» и «шум прибоя на берегу» — «бурный рокот пустынного моря», как у Китса в «Эндимионе» (строка 121). «Шум» также может означать «суматоху», «крики» и т. д. Глагол «шуметь» очень слабо передается английскими словами (см. также ком-мент. к главе Первой, XXXVII, 2).
12 немец акуратный «Акуратный» или «аккуратный» — полонизм восемнадцатого века, означает больше, чем обычно подразумевается под словом «пунктуальный»; имеет дополнительные оттенки опрятности и методичности — добродетелей, не типичных для русских. Пушкин довольно цинично ожидает здесь грубого хохота с галерки, если судить по отрывку из его письма Гнедичу (13 мая 1823 г. из Кишинева в С.-Петербург), в котором он упоминает одноактную комедию в стихах «Нерешительный» (представленную впервые 20 июля 1820 г.) третьестепенного драматурга Николая Хмельницкого, переделавшего ее с французского (по-видимому, из «L'Irrésolu» <«Нерешительный»> Филиппа Нерико Детуша): «Я очень знаю меру понятия, вкуса и просвещения этой публики… Помню, что Хмельницкий читал мне однажды своего „Нерешительного“; услыша стих „И должно честь отдать, что немцы аккуратны“, я сказал ему: вспомните мое слово, при этом стихе всё захлопает и захохочет. — А что тут острого, смешного? очень желал бы знать, сбылось ли мое предсказание».
13 В бумажном колпаке. Не только некоторые переводчики «ЕО», но и русские комментаторы поняли «бумажный» как «сделанный из бумаги». На самом деле, выражение «бумажный колпак» — попытка Пушкина передать французское «bonnet de coton» — домашний хлопчатобумажный головной убор. Слово «calpac», или «calpack», или «kalpak» в английских словарях связано с Востоком. Я использовал его, чтобы передать русское слово «колпак» в главе Пятой XVII, 4.
14 васисдас Французское слово (признанное Академией в 1798 г.) «vasistas», означающее небольшую форточку или фрамугу с подвижной заслонкой или решеткой; отсюда продавались булки; считается, что слово происходит от немецкого «Was ist das» <«Что это?»> (деривация столь же причудливая, как и у слова «haberdasher» <«галантерейщик»> якобы идущего от немецкого «habt ihr dass» <«возьмите это»>); в народном французском встречается в форме «vagistas».
Пушкин колебался между написанием «Wass ist das» и «васисдас», сделав выбор в пользу второго в беловом автографе («Рукописи», 1937).
Люпус в комментарии к своему переводу «ЕО» на немецкий (1899) замечает (с. 80), что расположенные в цокольном этаже магазины немецких булочников С.-Петербурга вместо нижнего оконного стекла имели медные пластины, которые по стуку покупателя опускались как маленький подъемный мост, образуя прилавок для торговли.
В «Альбоме Пушкинской юбилейной выставки» под ред. Л. Майкова и Б. Модзалевского (Москва, 1899) я обнаружил на листе 19 карикатуру — акварельный рисунок 1815 г., выполненный пушкинским школьным товарищем А. Илличевским; на рисунке (который находится теперь в Пушкинском Доме) группа лицеистов, с грубыми ужимками досаждает немецкому булочнику. Он, в полосатом домашнем колпаке, и его жена изображены в благородной ярости в своем окне первого этажа.
Но шумомъ бала утомленной,
И утро въ полночь обратя,
Спокойно спитъ въ тѣни блаженной
4 Забавъ и роскоши дитя.
Проснется за полдень, и снова
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра,
8 И завтра тоже, что вчера.
Но былъ ли счастливъ мой Евгеній,
Свободный, въ цвѣтѣ лучшихъ лѣтъ,
Среди блистательныхъ побѣдъ,
12 Среди вседневныхъ наслажденій?
Вотще ли былъ онъ средь пировъ
Неостороженъ и здоровъ?
На этом кончается описание онегинского зимнего дня 1819 г.; прерываемое отступлениями, оно занимает в целом 13 строф (XV–XVII, XX–XXV XXVII–XXVIII, XXXV–XXXVI).
См. в биографии Якова Толстого, написанной Модзалевским («Русская старина», XCIX [1899], 586–614; С [1899], 175–99), забавную параллель между описанием онегинского дня и четверостишиями Якова Толстого (лишенными какого бы то ни было таланта) — весьма архаичными ямбическими четырехстопниками с примесью журналистской бойкости, предвещающей сатиру середины века, — «Послание к петербургскому жителю» в толстовском собрании отвратительных стихов «Мое праздное время» ([май?], 1821), где есть следующие строки:
Проснувшись по утру с обедней
К полудню кончишь туалет;
Меж тем лежит уже в передней
Зазывный на вечер билет…
Спешишь, как будто приневолен,
Шагами мерить булевар…
Но час обеденный уж близок…
Пора в театр: туда к балету,
И вот, чрез пять минут…
Ты в ложах лорнируешь дам…
Домой заехавши, фигурке [ужасный германизм]
Своей ты придал лучший тон, —
И вот уж прыгаешь в мазурке…
С восходом солнца кончишь день…
На завтра ж снова, моды жертва,
Веселью в сретенье летишь,
И снова начинаешь то же…
Менее чем за три года до написания Пушкиным главы Первой этот Яков Толстой (1791–1867, военный человек и рифмоплет), которого поэт встречал на полулитературных вечерах в Петербурге (собрания вольнолюбивого общества «Зеленая лампа», неизменно упоминаемые, наряду с обедами «Арзамаса», любым историком литературы, хотя они не имеют ни малейшего значения для развития пушкинского таланта; группа, однако, всегда впечатляет историков литературы), простодушно просил Пушкина в стихотворном послании научить его избавиться от немецких ритмов и писать столь же изящно, как автор «Руслана». Может показаться, что Пушкин в главе Первой умышленно продемонстрировал несчастному рифмоплету развитие его же темы.
*
Ср. «Мнение о реформе, в частности, игорных клубов» Члена Парламента (1784, цитируется Эндрю Штейнмецом в «Расписании игр» [Лондон, 1870,] I, 116) в отношении дня юного лондонского «модника»: «Он встает, чтобы только хватило времени на прогулку верхом в Кенсингтон-Гарденз; возвращается переодеться, поздно обедает, затем посещает вечера картежников, как делал это и вечером накануне… Таким мы находим современный модный стиль жизни от высшего чина до младшего офицера в гвардии». (Ср. также глава Вторая, XXX 13–14).
Работа В. Резанова «К вопросу о влиянии Вольтера на Пушкина»[27] подвигла меня заглянуть в сатиру Вольтера «Светский человек» (1736), изображающую «теченье дней порядочного человека» (строка 64) и содержащую подобные онегинским строки (65–66, 89, 91, 99, 105–07):
Entrez chez lui; la foule des beaux arts,
Enfants du goût, se montre à vos regards…
Il court au bain…
…il vole au rendez-vous…
Il va siffler quelque opéra nouveau…
Le vin d'Aï, dont la mousse pressée,
De la bouteille avec force élancée
Comme un éclair fait voler son bouchon…
<Войдите к нему; собрание изящных искусств,
Детищ вкуса, демонстрируют себя вашим взорам…
Он спешит гулять…
…он летит на свидание…
Он готов освистать некую новую оперу…
Вино Аи, пена которого
Со стремительной силой, как молния,
Заставляет пробку лететь прочь из бутылки… >.
(См. также коммент. к главе Первой, XXIII, 5–8).
В томе XIV (1785) Полного собрания сочинений Вольтера (1785–89) этот «Светский человек» (с. 103–26) состоит из «Уведомления издателей», самого текста (с. 111–15), написанного отвратительно скучными стихами, как все стихи Вольтера, нескольких любопытных примечаний к нему (включая знаменитое объяснение бегства автора в Сан-Суси); двух писем; «Защиты светского человека, или Апологии роскоши» и заключительного скверного «Об умении жить».