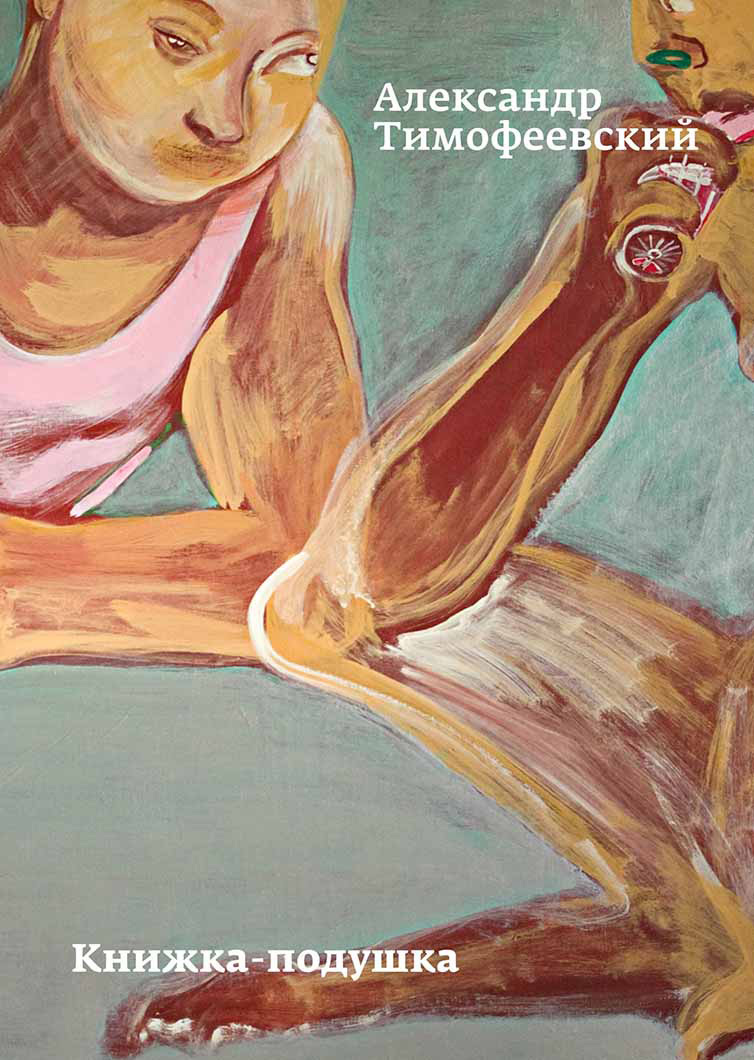красоты, эстетика всегда приносится в жертву этике, даром что двадцатые годы ее понимают весьма своеобразно. И там, и там аскеза. И там, и там безбытность. И там, и там нравственный максимализм. Все так, все близко, все похоже, все даже родственно, но в то же время принципиально другое.
Нуль двадцатых и шестидесятых годов — это разный нуль.
И нравственный максимализм тоже разный. Идеологи двадцатых очень постарались над тем, чтобы нуль округлить. Они взялись разрушить старый мир до основанья.
И разрушили. Нравственный максимализм двадцатых направлен прежде всего против элементарной нравственности:
Павлик Морозов — родной сын Любови Яровой. Ужас сталинского времени не только в том, что были уничтожены миллионы людей. Ужас сталинского времени, может быть, больше всего в том, что и те, кто уничтожал, и даже те, кто был уничтожен, воспринимали происходящее как порядок вещей, как естественный и благословенный ход событий. Десять заповедей оказались забыты и поруганы. Восстановление десяти заповедей, то есть норм элементарной нравственности — главная заслуга шестидесятников. И не их вина, а их беда, что — дети своего времени — они сотворили утопию нравственную.
Любая утопия — плод синкретического мышления. Основа ее — некая всепронизывающая идея. Идея может быть разной: классовой, расовой, национальной, религиозной, какой угодно. Основой шестидесятнической утопии была идея нравственная. Что говорить, нравственная утопия — самая симпатичная из всех возможных. И что значительно важнее — самая безобидная. И что еще важнее — абсолютно неосуществимая. Но — утопия.
Десять заповедей обязательны для всех. Но из этого вовсе не следует, что есть некий разветвленный нравственный закон, которому должны быть подчинены и религия, и государство, и общество, и культура, и частная жизнь обывателя. Есть религиозный закон, есть государственный закон, есть отличные друг от друга общественные законы, принятые в разных сообществах, есть, наконец, личный закон, свой для каждого, и все это множество законов существует отдельно и вовсе не нуждается в общем знаменателе.
Общий знаменатель подразумевал наличие числителя. Таким числителем была Правда, опять — таки синкретичная, все пронизывающая и всех охватывающая. Миссия правды возлагалась на искусство. По понятиям шестидесятников, искусство собственно для того и существовало, чтобы говорить Правду. Убежденность в том, что «если все прочтут Солженицына, то…», зиждилась на единстве числителя и чаемого знаменателя. Но место Солженицына мог занимать и Ремарк, и Хемингуэй, и фильм Ромма «9 дней одного года» — все, что почему — либо возводилось в нравственный абсолют. И тыкали несчастную Марью Ивановну в Ремарка, и мучили милиционера Хемингуэем, искренне полагая, что они от этого станут нравственнее. То, что у милиционера может быть свой нравственный закон и свой внутренний мир, не пересекающийся ни с Ремарком, ни с Хемингуэем, ни с Толстым, ни с «Сикстинской мадонной» и при этом вполне самодостаточный, — казалось немыслимым. То, что Марья Ивановна станет нравственней не от фильма Ромма, а перестав толкаться в очередях, — исключалось напрочь.
Демократия, основанная на единстве нравственного идеала, эта причудливая фантазия авторитарного мышления — суть утопии шестидесятников. Мир, существующий в раздельности вещей и явлений, был непонятен и чужд этой утопии, как и любой другой утопии. Нормальное демократическое общество не стремится ни к всеобщности, ни к тотальному единству нравственных понятий. В нормальном демократическом обществе милиционер ловит хулиганов, водопроводчик чинит трубы, а ученый пишет ученые труды. И все довольны друг другом. Милиционер, читающий умные книжки, обязательно влечет за собой водопроводчика, который сам выясняет отношения с хулиганом, и ученого, который чинит трубы. Такова неизбежная расплата за фантазии. За фантазию о том, что искусство должно говорить правду, мы расплачиваемся и еще долго будем расплачиваться публицистическими коллажами типа «ЧП районного масштаба». Искусство должно правдиво следовать своим собственным внутренним законам. В искусстве должно быть искусство, а правда должна быть в газете «Правда». Политикой должны заниматься политики, а не доярки и шаманы. А в церкви должны быть священники, а не служители Комитета по делам религий. Церковь, искусство и политика существуют по различным, не пересекающимся законам и могут нормально функционировать лишь в обществе, которое не обеспокоено поисками общего знаменателя. Его нам не дано и не надо знать. Это не наша земная забота. Это — «премудрость Вышнего Творца». Поиски общего знаменателя — удел утопии, и мы слишком помним, к чему они приводят. Поэтому послушаемся совета Баратынского:
Премудрость Вышнего Творца
Не нам исследовать и мерить;
В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.
Там, после конца, будет все, что мило сердцу утопистов: и полный синкретизм, и абсолютная истина, и общий знаменатель. Так что пусть наберутся терпения.
Пьеро Ди Козимо. «Кефал и Прокрида»
Так прорастает вглубь уродливая роза.
Кари Унксова
Кладбище, метро, очередь, мещанский дизайн. Как очень большой художник, Кира Муратова, беря тему или фактуру, исчерпывает ее до конца так, что после нее сказать вроде бы и нечего. И таинственная огромная тема метро, доселе даже не затронутая советским кинематографом, теперь практически закрыта. Любопытно, что в самое последнее время некоторые наши кинематографисты почти подходили к этой теме, правда, совсем с другой стороны. Метро представало как храм тоталитарной государственности, как апофеоз сталинского «большого стиля».
Этого метро в «Астеническом синдроме» нет. Муратовой выбрана стоящая особняком причудливая и кичевая, но лишенная монументальности и даже по — своему веселенькая, как мещанский лубок, станция «Новослободская». Метро Муратовой — это скопище застывших спящих людей, и именно здесь на фоне веселенькой декорации разыгрывается мистерия сна как смерти. Она завершится на какой — то безликой современной станции, на конечной остановке. Завершится в перевернутом виде. Уже не сон как смерть, а смерть как сон, метро как гроб, как склеп или как крематорий, и поезд как катафалк, увозящий героя в черную поглощающую дыру небытия.
Финальная сцена возвращает нас к первым эпизодам, связывая две части картины. Первую — черно — белую — историю женщины, потерявшей мужа. И вторую — цветную — историю человека, теряющего самого себя и всякую связь с миром. Начальный и заключительный эпизоды картины — скрытая, но почти полная рифма. И там, и там — смерть, и свадебная роза героя превращается в похоронную, и мат случайной попутчицы в метро, вызвавший такое негодование наших целомудреннейших начальников, звучит как плач, как заклинание над покойником. Частная вроде бы история женщины, потерявшей мужа, перерастает в символическую историю общества, впавшего