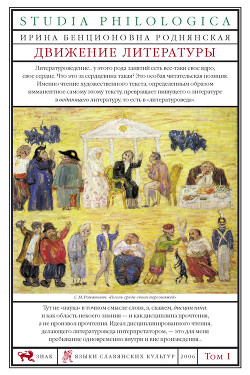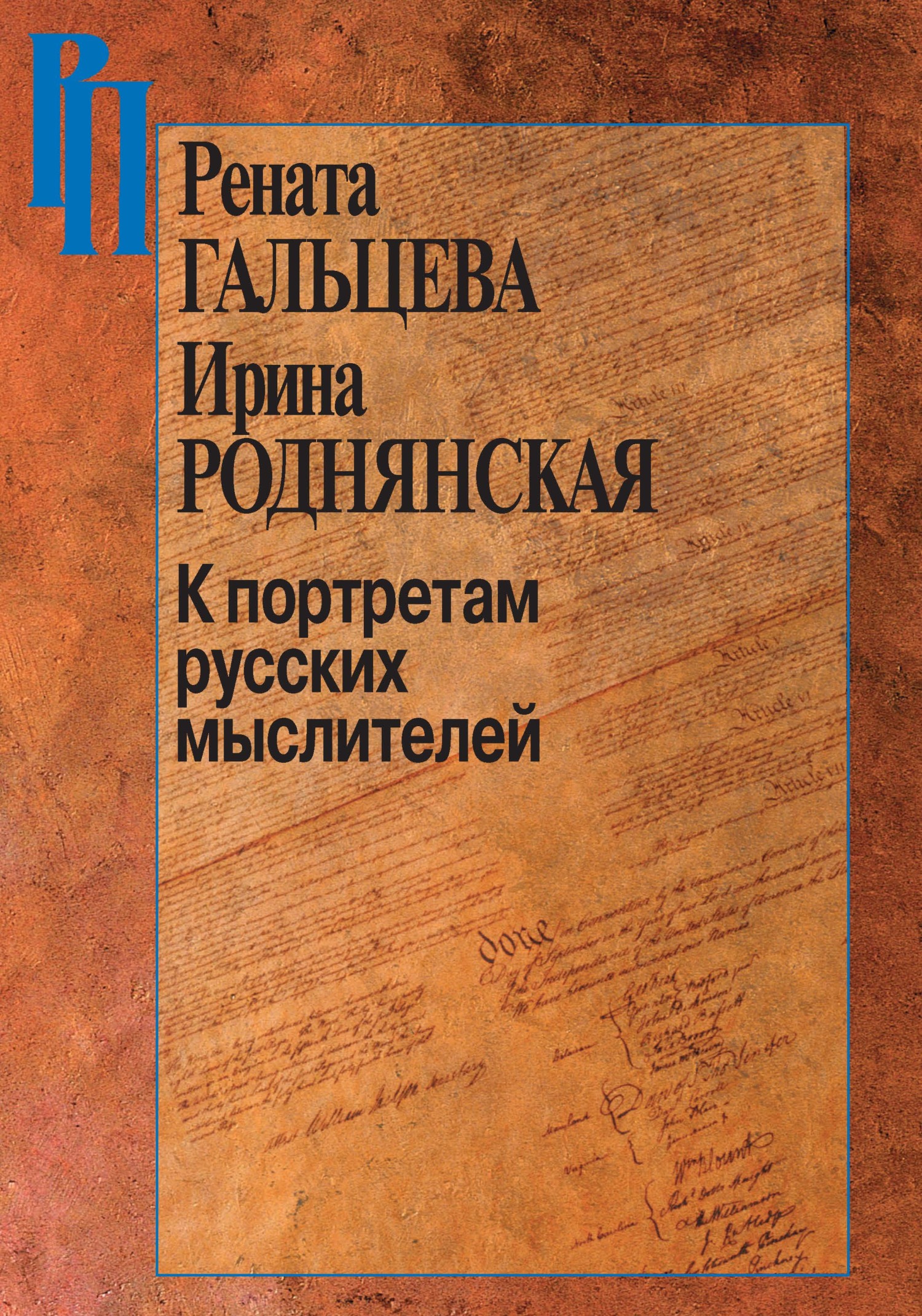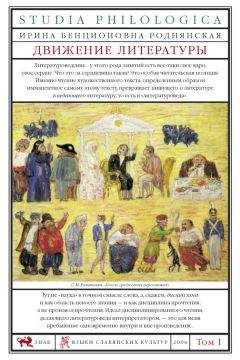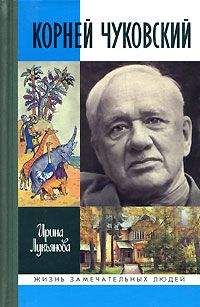Автор «Братьев Карамазовых», задумываясь над положением России, уповал на двуединый нравственный процесс, изображенный в жизненном пути Мити и Алеши. Во-первых, это добровольное претерпевание заслуженных и незаслуженных испытаний, с тем чтобы изжить в себе «беспорядок», ту самую моральную аморфность, какую имеет в виду Митя, говоря: «Высшего порядка во мне нет». Во-вторых, это деятельный и общественно-значимый выход к другому. Создавая своего рода мемориальный кружок вокруг жертвенной личности покойного Илюшечки, Алеша следует примеру своего наставника, который «любовью… воздвиг кругом себя целый мир любящих». Илюшечкина община оказывается новым, нетрадиционным побегом на древе духовной традиции. Так Алешей сеется зерно не программно-отвлеченного, а непосредственно братского единения, а Митина очистившаяся душа – почва, в которой такое зерно, по Достоевскому, должно прорасти, принеся в конце концов изобильный урожай вселенского братства.
Это грандиозное этическое задание и есть последнее слово Достоевского, общее для финала «Братьев Kaрамазовых» и создававшейся одновременно Пушкинской речи. С восторгом откликаясь на нее, тогдашний вождь славянофильства И. С. Аксаков даже изобретает торжественный неологизм «всебратство», чтобы выразить свое полное единодушие с идеалами и чаяниями писателя (из письма И. С. Аксакова от 20 августа 1880 года. [126] Но, размышляя о «чувстве всебратства» у русского народа, Аксаков, в отличие от Достоевского, невольно делает упор на настоящее, в котором народный характер рисуется ему уже положительно завершенным, а не на будущее, когда этой способности к «всебратству» предстоит явить себя в творчестве новых общественных форм.
Достоевский же был озабочен будущим… Поэтому свои идеи нравственного служения он адресовал молодежи. Образом Алеши он надеялся популяризовать путь «деятельной любви» и вместе с тем уловить реальные черты нового деятеля на этом поприще. Действительно, среди его младших современников находились замечательные представители Алешиного духа. Каким энтузиазмом, какой готовностью к конкретному делу веет, например, от одного частного документа той поры: «Я совершенно уверен, что скоро будет большое дело, которое объединит очень многих – и нас с Вами очень близко. Я смотрю на Вас и на себя (как на всех порядочных людей нашего поколения) – как на будущих служителей одного неведомого бога. Правда, Вы лучше меня готовитесь к этому служению – живя для других и делая добро окружающему Вас миру <…> я говорю о неведомом – откроется ли оно? Одно несомненно, что без этого жить нельзя». Это строки из письма Владимира Соловьева его слушательнице на женских курсах и близкой приятельнице Елизавете Поливановой; [127] обоим было тогда, в 1877 году, по двадцать с лишним лет. Елизавета Михайловна Поливанова принадлежала к особо выделенному Достоевским типу русской девушки, о котором он говорит в июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год: «Тут потребность жертвы, дела, будто бы от нее именно ожидаемого, и убеждение, что нужно и должно начать самой, первой и безо всяких отговорок все то хорошее, чего ждешь и чего требуешь от других людей, – убеждение в высшей степени верное и нравственное…». [128] Когда во время русско-турецкой войны Лизе Поливановой не удалось уехать на сербский фронт, где уже воевали ее братья, она стала сестрой милосердия в подмосковном госпитале. Этот поступок и имеет в виду Соловьев, говоря о ее служении окружающим. А упоминая в письме о «неведомом боге» грядущего, он подразумевает «софийную» гармонизацию земного бытия – идеал, формулируемый им в семидесятых годах и созвучный близко общавшемуся с философом Достоевскому.
В самом поведении Соловьева было нечто сближающее его с Алешей Карамазовым. [129] Например, он совершил шаг, необычный для его среды и научной карьеры: после университета стал вольнослушателем Московской духовной академии, в связи с чем пошли слухи о его намерении принять монашество. У Достоевского Алеша столь же непредвиденно отправляется в монастырь – и тоже не для того, чтобы навсегда остаться в его стенах. Оба в поисках всецелой правды курсируют между «дольним» и «горним», непроизвольно нарушая ранжир и кастовые условности. И в своем устремлении к жизненному воплощению идеала оба – реальный персонаж и литературный – являют собой тип еще «невыяснившегося» деятеля, на которого как на созидателя и единящий фермент русской жизни возлагал надежду автор «Братьев Карамазовых».
«Невыяснившийся» в текущем дне образ Алеши, мы знаем, дан в романе эскизно, и теперь уже невозможно решить, состоялось ли бы продолжение «Братьев Карамазовых» и получил ли бы в нем Алеша более пластичное художественное воплощение. Но, быть может, сегодняшнему читателю важнее другое: Алеша и задуман автором так, что самой исторической действительности предстоит наполнить реальным содержанием беглые контуры его облика.
Алеша, этот претендент на место главного героя, играет между тем в романе роль едва ли не служебного персонажа, лишенного собственной сюжетной линии и движущей личной страсти. Как лицо без определенных занятий он ушел с головой в посредничество между окружающими, которое, за исключением обращенного в будущее детского братства, не приносит осязаемых плодов: Иван повержен своим бесом; Лиза Хохлакова, исцеленная физически, захвачена эстетикой зла; Катерина Ивановна не вразумилась; Митя, упущенный Алешей в роковую ночь убийства, осужден. И тем не менее Алеша незримо входит в жизнь каждого из этих неустроенных людей, оказываясь критерием их совести. Его делание, его сердечный труд пополняют фонд добра, которое, по Достоевскому, из тайного непременно становится явным и изменяет в лучшую сторону баланс мировых сил.
Но для самого деятеля это отнюдь не путь торжества, и продвижение здесь измеряется не внешним успехом, а возрастающим чувством приобщения к правде. Алешина установка на собирание и накопление положительной энергии духа – именно в нынешнем расточительном мире, где никто не хочет ждать и требует немедленной отдачи, не должна ли быть осознана в ее нравственной плодотворности? Завещание, оставленное Достоевским, обращено теперь к нам…
Общественный идеал Достоевского [130]
Думаю, слушатели собираются в эту аудиторию не ради обогащения информацией, не ради заполнения пробелов в образовании (хотя последнее тоже нелишне после длительного вето, налагавшегося на русских мыслителей), а затем, чтобы узнать нечто о пути жизни.
Достоевский был великим учителем жизни, но если мои слушатели вообразят, что, очерчивая его общественный идеал, я сообщу что-нибудь такое, о чем они вовсе не догадывались прежде, – то ошибутся. Дело в том, что этот идеал у всех людей один, и такой древний, что мифологии относят его в глубокое, незапамятное прошлое, именуя «золотым веком», а двухтысячелетняя эсхатология переносит в искони чаемое грядущее: это Царство Божие на новой земле под обновленными небесами. Всякий, кого ни спроси, знает, в чем такой идеал: это жизнь между людьми в мире и согласии на изобильной цветущей земле, притом жизнь, проникнутая смыслом, любовью, ощущением своей нужности, своей причастности чему-то высшему и неуничтожимому.
Люди испокон веков спорят не об этом идеале человеческого общежития, а о том, достижим ли он и, если да, то какими средствами. Большинство сходится на том, что общественный идеал – это своего рода математический предел: в границах человеческой истории он недостижим, но это не значит, что стремление к нему бесполезно, это не значит, что человечеству суждено фатально двигаться в сторону, прямо противоположную. Так думал и Достоевский. «Счастье не в счастье, а лишь в достижении», то есть в стремлении, считал он, и тем не менее образ «счастья», как он нарисован, например, в видении «смешного человека», дает этому стремлению вектор, направление, вдохновляющий импульс. И тут-то встает вопрос о средствах достижения.