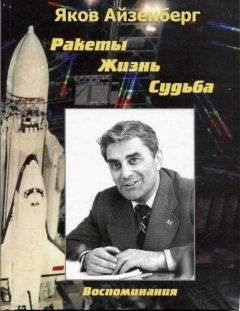Движение стиха продолжает ритм поэтического труда. Его скорость велика, но почти неизменна, а расстановка пауз соответствует неостановимому напору разогнавшейся словесной машины. И в работе этой машины тоже слышен глубинный до-речевой гул.
Идет она, эта работа, словно одновременно в двух режимах – и по двойному заданию. Стихи Юрьева задают себе в пример самые высокие образцы, они принимают в себя весь предшествующий литературный опыт и ни от чего не хотят (не могут?) отказаться. Но при том эти стихи начинают строить себя из самых глубин языка и по ходу дела пересоздают все, что встречается на пути.
То есть новаторское по существу стихостроительство происходит в каком-то особом, пронизанном ностальгией пространстве и не ждет помощи от обстоятельств – от самой жизни, состоящей из случайных подсказок.
Мы никогда не поймем загадку или тайну поэта, не задавшись вопросом: что являет собой целое его речи? Собственно – что он говорит? И ради чего? Но только поняв, как он говорит, можно понять суть высказывания.
Что же являет собой целое речи Юрьева? Во-первых, можно сказать, что это целое есть, и оно предельно ощутимо. Оно существует безусловно, но отчего-то не спешит себя проявить. Не спешит сказаться. Как будто для него достаточно просто существовать, и оболочку стиха оно тоже принимает за очередную «камеру хранения». Более того: поэзия Юрьева явно дорожит своей немотой. Текст закрыт и не проявляет, скорее, отчуждает переживание и ситуацию. Все идет в дело, но само это дело – скрытное, потаенное.
Я, впрочем, вижу в этом не личную странность, но общую для всей нашей работы. «Да обретут мои уста / Первоначальную немоту» (О. Мандельштам). Поэзия немотствует, потому что она – язык до превращения в понятия. До начала «культурного обмена». И все же индивидуальная особенность, странность существует. Как правило, поэтика перерождает себя так, чтобы сделать личный язык не вполне птичьим и постепенно расширить круг сообщников. У Юрьева же стиховое развитие проходит как будто в обратном направлении – к началу, к первому побудительному движению. К той точке, где целое яснее всего проявлено как немое.
Его речь обращена к истоку.
Соответственно и творческое время Юрьева устремлено к своему началу. Мы могли бы предположить (и это не будет недопустимой натяжкой), что стихи Юрьева намерены существовать не во времени, а до времени. По крайней мере до того времени, когда вошла в полную силу русская поэзия. Олег Юрьев хотел бы, мне кажется, начать ее заново – и во многом иначе. Вспомним об Орфее.
Суть задачи (и смысл работы) даже не в том, что высказывание невозможно – то есть просто фактически, технически невыполнимо – ни на каком ином языке, кроме того, что создается в процессе высказывания. Суть в том, что новый язык и является собственно высказыванием. Вот эти необычные сращения слов, которые даже неловко называть «сочетаниями». Пересоставленные и сплавленные наново, они идут в разлом, обнажая игру дикой породы.
Но почему Юрьеву так нужны при этом те слова, что надежно испытаны временем? Потому, вероятно, что в них сохранился некий накопленный за два столетия силовой остаток. Такие слова сами по себе являются формой, и она достаточно затвердела. Это твердая форма. Она сопротивляется повторным испытаниям, сопротивляется тому, кто хочет дать ей вторую жизнь. Она требует работы. Заключенные в старые слова новые смыслы испытывают прежние связи: пробуют их на разрыв. Подобная задача требует осторожности. Б. Бухштаб предупреждал об этом еще в 1926 году: «Нужно быть очень осторожным, ставя слова: легкий, косматый, прозрачный, пчелы, воск, шелк, ласточка – потому что у этих слов в поэзии нашего часа сильное стремление повернуться той же мандельштамовской стороной».[14] Тот час для поэзии прошел, и от современного автора здесь требуется не только осторожность. Еще и особого рода смелость: выверенная опрометчивость.
Чтобы понять необходимость именно таких испытаний, нам нужно приглядеться к тому, что и как видит Юрьев. Нам нужно, собственно, увидеть его зрение.
Если посмотреть на сегодняшние реалии издалека, словно из позапрошлого века, и повернуть невидящие сегодняшние зрачки, можно многое различить. Вот движется автомобиль:
Коробок заводной превращается в течь
И течет по ночному шоссе под уклон,
В нем четыре жильца, помещенных углом
Меж нетвердых стекольчатых створок.
Явления и вещи уходят в глубокую тень – или приближаются к своим прообразам. Речь идет даже не об особенности видения, но о самой зрительной способности. Заданная себе работа заставляет автора совершенствовать эту способность, обращая ее в прибор ночного видения – все более тонкий, все более приноровленный различать контуры внутри слепящей тьмы, ослепительного темного блеска. Одно из стихотворений Юрьева так и называется – «Стихи к у ходящему зрению». Уходящему не значит слабеющему. Зрение у ходит в другую область – в другое время, и взгляд, прозревающий ночь, слепнет для прочих (дневных) впечатлений. Зрение ли это? Скорее, умозрение. И собственная природа – такой же законный предмет оптического исследования. Взгляд обращен и вовнутрь, в глубины собственного подозрительного строения. Что-то проявляется, как на рентгеновском снимке. «Человек, эка странная полость» («Ода»). Зрение здесь – видящий прибор, щуп, зрительный нерв, проникающий в пазы вещества, исследующий его строение и состав. Физическое строение, химический состав. Все это, уже незримое, – как оно устроено? Как устроен мир, и есть ли в его устройстве какая-либо прочность? Какое-то твердое основание? Насколько прочны старые слова, – то есть прежние понятия? Среди слишком очевидного (заметного, видимого) убытка есть ли что-то постоянное и неубывающее? Чтобы узнать это достоверно, нужно увидеть изнанку существования, его испод: как сходятся нити, как плетется основа.
Кажется, вышелушились бесследно
Зерна глазного пшена,
Только и видит обратное зрение,
Ясное дотемна:
Старые сумерки реже и бреннее
Вычесанного руна,
Старое дерево медно,
Старая медь зелена.
Упорное стремление видеть вещи в истинном свете проявляет себя как сила. Мы чувствуем поток силовых линий, он проходит сквозь наш состав. Его можно не понять, но нельзя не заметить.
Разумнее всего было бы не участвовать в дискуссии, если не можешь дать точный ответ ни на один из поставленных вопросов. Основное затруднение в том, что с некоторой (достаточной) уверенностью я могу говорить только о собственном «читательском восприятии». Даже предпочтения некоторых близких знакомых становятся подчас неразрешимой загадкой. Тем более трудно говорить о том условном читателе, который всей своей массой читает каждый раз какую-то одну книгу.
Но этого и не требуется. В условиях свободного книгоиздания такой читатель сам яснее ясного говорит о своих вкусах: достаточно просмотреть наименования и сравнить тиражи. Картина, думаю, будет примерно следующая: доля non-fiction постепенно увеличивается, но и «литература вымысла» не сдает позиций. Вывод не сокрушительный, даже не слишком интересный. Еще и потому, что смена жанровых вех ровно ничего не гарантирует: ни повышения художественного или интеллектуального уровня, ни их понижения. У «литературы факта» есть некоторые гарантии (сама ее «фактичность» гарантирует некоторую близость к реальности), но ведь и реальность имеет, увы, свое бульварное толкование.
Вот и начну сразу с последнего пункта: о массовом и элитарном читателе. Можно предположить, что имеется в виду разный уровень образования, подготовленности, филологической изощренности. Но в сознании, помимо воли, являются какие-то образы, один хуже другого. Один читает наспех и без разбора, другой взыскательно щурится и брезгливо морщится. Спрятать свою книжку хотелось бы от обоих.
На мой взгляд, разделение идет по другому принципу: один читает, чтобы забыться и заснуть, другой – чтобы проснуться и – что? Понять? Ну, понять. Или почувствовать, ощутить что-то. Вместе с автором, а на самом деле – вместо автора. То есть, как бы встав на его место.
Помните анекдот про тронутую умом даму, которая, услышав стук в дверь, спрашивает: кто там? «Мама, это я». – «Не-ет, – отвечает дама. – Мама – это я». Вот и Флобер может сколько угодно говорить о своем тождестве с героиней романа, но мы-то точно знаем, кто здесь Эмма Бовари.
Я уже цитировал в другой статье одну удивительную фразу Мандельштама, а повторяться, знаю, нехорошо, но мне без нее не обойтись. «Должно быть, величайшая дерзость – беседовать с читателем о настоящем в тоне абсолютной вежливости, которую мы почему-то уступили мемуаристам». Ведь сколько разговоров о падении литературного спроса и исчезновении читателя, и ни в одном даже не мелькнуло такое слово – «вежливость». Я согласен, что читатель уже не ищет книгу-учителя. Но едва ли он ищет книгу-провокатора, книгу-вымогателя. За неимением лучшего можно перетерпеть необязательное воркование автора-попутчика. На перегоне «метро – больница» я еще могу занять себя произведением, на котором написано «купи меня». Но ведь на большинстве сработанных для продажи книг написано совсем не это. Там ясно читается: «купи меня, как я тебя». Эта литература полагает, что она меня купила и совсем не задорого. Что цена мне в общем ломаный грош. («Это стул не для вас, а для всех» – было написано когда-то на одном нехитром художественном объекте.) Писатель уверен, что знает вкус покупателя и уж как-нибудь сумеет его поймать. Читатель нехотя ловится, а чаще – вообще перестает читать.