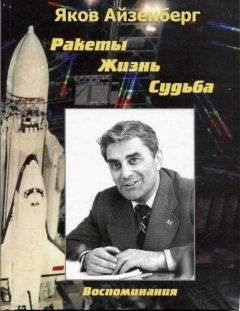Я уже цитировал в другой статье одну удивительную фразу Мандельштама, а повторяться, знаю, нехорошо, но мне без нее не обойтись. «Должно быть, величайшая дерзость – беседовать с читателем о настоящем в тоне абсолютной вежливости, которую мы почему-то уступили мемуаристам». Ведь сколько разговоров о падении литературного спроса и исчезновении читателя, и ни в одном даже не мелькнуло такое слово – «вежливость». Я согласен, что читатель уже не ищет книгу-учителя. Но едва ли он ищет книгу-провокатора, книгу-вымогателя. За неимением лучшего можно перетерпеть необязательное воркование автора-попутчика. На перегоне «метро – больница» я еще могу занять себя произведением, на котором написано «купи меня». Но ведь на большинстве сработанных для продажи книг написано совсем не это. Там ясно читается: «купи меня, как я тебя». Эта литература полагает, что она меня купила и совсем не задорого. Что цена мне в общем ломаный грош. («Это стул не для вас, а для всех» – было написано когда-то на одном нехитром художественном объекте.) Писатель уверен, что знает вкус покупателя и уж как-нибудь сумеет его поймать. Читатель нехотя ловится, а чаще – вообще перестает читать.
Первый вывод: читатель выбирает не литературный жанр, а то или иное отношение к себе – читателю, человеку. И ищет книгу, автором которой он мог бы стать – на время чтения. Набоков сказал однажды (пересказываю очень приблизительно), что сверхзадача писателя – заставить увидеть написанное им. Странная, казалось бы, идея при том, что есть кинематограф (к которому Набоков всю жизнь присматривался с хищным интересом). Но вот «Война и мир». Все читали роман, все (многие) видели экранизацию. В первом случае ты действительно видишь происходящее: внутренним зрением, собственным воображением. И запоминаешь почти как эпизод собственной жизни. Или как свой невероятно яркий сон. Во втором – проглядываешь захватанные иллюстрации.
Кино, как известно, быстро устаревает. Граница, отделяющая драматическое от комического, а «стильное» от пародийного необычайно подвижна. Меняется вкус и «чувствительность», меняются показания нашей сигнальной системы в отношении человеческой внешности, в отношении «мимики и жеста». Но на восприятие художественного текста эти изменения как будто не влияют, при чтении включаются собственные представления. Написано «он криво улыбнулся», и мы представляем эту кривую улыбку так, как это нам сейчас свойственно. А в кино – вот она, эта кривая улыбка, кривее, действительно, не бывает.
Еще одна цитата. «Вскоре темы как таковые перестают интересовать; источником наслаждения становятся не судьбы, не приключения действующих лиц, а их непосредственное присутствие» (Х. Ортега-и-Гассет). Что привлекает нас в художественном повествовании? Не сюжет, вероятно, а тонкая связь разных обстоятельств, дающая возможность как-то участвовать в происходящем. Текст становится прозой при личном участии читателя. Сердце, бьющееся в такт повествованию, – не метафора, а физиологическая данность: скорость письма и сложноподчиненный ритм вызывают вполне определенные сокращения сердечных мышц.
Нужно оговориться: речь здесь идет не о реализме как литературном направлении, а о реальности в искусстве. О ее возможности. О ее природе. Я думаю, что эта реальность всегда известна художнику, но как-то вслепую: темно записана на подкладке его сознания. И он всю жизнь ищет, подбирает подходящую оптику.
Вижу, что разговор незаметно изменил направление: мы уже говорим не о читателе, а о писателе. О том, существуют ли сейчас писатели, готовые разделить свое авторство с читающим. Сделать его соавтором. А если существуют, то где обитают – в каких жанровых областях. Человек это уже не стиль, а жанр. Боюсь, что устоявшийся, снабженный мощной инерцией жанр заслоняет человека. А кто-то возразит: на то и инерция, чтобы ее преодолевать.
Факт и вымысел. Работа творческой памяти или работа воображения. Но уже у Пруста трудно (пожалуй, невозможно) разделить эти стихии, да и последователи Джойса едва ли уверенно укажу т свое место в одной из двух областей. В каких-то случаях речь идет о мимикрии или искусной имитации, и именно эти случаи необыкновенно показательны. Едва ли не лучшие вещи, прочитанные мной в последние годы, использовали все доступные средства, чтобы стать (или показаться) не «романом», не «повестью». Хотя, возможно, ими и являлись на самом деле. Примеры? «Философия одного переулка» Александра Пятигорского, «Ло745жится мгла на старые ступени» Александра Чудакова или совсем недавняя «Берлинская флейта» Анатолия Гаврилова. Их авторы как будто открещиваются от чего-то, сразу дают понять, что они не «писатели». По крайней мере – другие, не те писатели. (Предисловие к «Философии одного переулка» начинается фразой: «Я – не писатель». Формально так и есть – в отношении Пятигорского, – но решительность этой фразы продиктована, на мой взгляд, именно писательской интуицией. В определенной художественной ситуации она подсказывает автору отказаться от привычных навыков, даже от самого звания писателя, и заставляет его изобретать какой-то неведомый гибридный жанр.)
И действительно: что-то произошло с авторами, ставящими на «вымысел», как на темную, но верную лошадку. Они поняли вдруг, что писательство – это просто такая профессия.
И, честно говоря, с этим не поспоришь. Но что-то все же не то, неладно. Может быть, решение правильное, да выводы слишком поспешны. Хочу уточнить: я говорю сейчас об относительно новой литературе, ловко сплавляющей стилизацию и симуляцию. О литературе, не меняющей нашего представления о природе художественного текста, а только обеспечивающей ему (тексту) более комфортное существование. О литературе, в общем идущей от Умберто Эко и его последователей. Это, на мой взгляд, «бумажная» литература (как есть «бумажная» архитектура – вещь в своем роде занятная), но именно она все плотнее заполняет магазинные полки и журнальные полосы. Обживаемое такой литературой пространство напоминает театральные подмостки, но читатель смотрит не из зала, а из-за случайной кулисы, как любопытный рабочий сцены. Вся фанера этих стен, кисея далей и рабочий пот откровений даны ему «в ощущениях». Никакое воображение не заставит его поверить, что это действительно дали, стены, страсти. Не заставит угадать в этом настоящее.
Я не в состоянии читать прозу, которая решает свои задачи, минуя реальность письма. Это заведомая фальшивка. Меня обманывают, хотят прикарманить мое время. Текст лепечет, бубнит, назидательно диктует или кликушествует. Никогда не говорит. Это никогда не речь – кого-то, с кем я хотел или мог бы поменяться местами. Но зачем мне слушать какого-то никого? Что в этом может быть интересного?
Очень показательно, что «Дневник 1934 года» Михаила Кузмина выпустило именно «Издательство Ивана Лимбаха» (1998), прежде печатавшее только современных авторов, чья «современность» еще приправлена в читательском восприятии особой интригующей остротой и необычностью (О. Григорьев, Д. А. Пригов и пр.). Чутью издателей в данном случае можно доверять: умерший более полувека назад Михаил Кузмин и сейчас входит в круг таких авторов. Он очень известен, широко опубликован, но какие-то – и, может быть, главные – черты его творческого облика все еще кажутся непонятыми, неразгаданными. (Недаром фигура Кузмина так привлекает исследователей.) Загадочен прежде всего анахронизм Кузмина, сумевшего стать своим в самых разных временах и писавшего о далеких эпохах с речевой непринужденностью современника. Еще загадочнее, что он сохранил эту способность и для настоящего времени.
«Дневник 1934 года» – лишь небольшая часть дневниковых записей, которые Кузмин начал в 1905 году и с перерывами вел в течение всей жизни. Не все дневники сохранились, сохранившиеся опубликованы частично и в полном объеме доступны только специалистам. Почти подневные записи тридцать четвертого года – последние из дошедших до нас (дневник 1935 года не сохранился). Кузмин умер через год с небольшим после того, как 31 декабря закончил годовые впечатления словами: «А мысль о поездке в Италию не кажется мне невозможной». И в этой фразе весь Кузмин.
Многочисленные воспоминания донесли до нас разные мнения современников об этом поэте, от восторженных до негодующих, но всегда заметна какая-то завороженность в описаниях его обаятельно-грациозного, почти эфемерного облика. С удручающим постоянством воспроизводится и мотив маски, в общем привычный для Серебряного века. Переимчивость писательской манеры Кузмина тоже напоминала современникам смену стилевых масок, даже стилизаторство, но читатель «Дневника» едва ли поймет эти упреки. Прозрачность и мягкость тона поздней прозы почти подводят нас к разгадке авторского феномена Кузмина: соединения редкой искушенности и невероятной безыскусности.