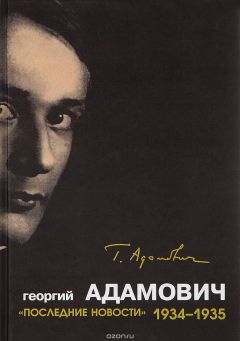…Перестань-ка, брат, сжимать кулачишки, визжать, брызгать слюной и материться: там-то бы, вероятно, тебе учинили кулачную расправу, заставили показывать, жид ты или нет, читать “Верую”, петь “Интернационал”, потом “пить мировую” и т. д., — увещевал себя Долголиков.
“Возвеселись-ка лучше, сожмись, благодари Господа”».
* * *
Несколько новых сборников стихов.
Как обычно, чтение или даже беглый осмотр их наводит на общие соображения о нашей поэзии, — и о причинах ее упадка, который, право же, невозможно отнести на счет привередливых и вечно брюзжащих критиков с расстроенным воображением. Да, конечно, об упадке критики писали всегда, не смущаясь тем, что они современники Пушкина или Тютчева, Боратынского или Некрасова. Но делать из этого факта вывод, будто и мы не замечаем наших теперешних Пушкиных, — по меньшей мере, опрометчиво. Да, кроме того, не об отдельных талантах речь, а о каком-то прогрессивном параличе, медленно сковывающем русское стихотворное творчество. Вот пять или шесть книжек, разных по культурности и даровитости авторов, а симптомы болезни видны в каждой.
Их, может быть, менее всего у Марии Веги, автора «Полыни». Но это не потому, чтобы она была особенно сильна, а скорее по недостатку строгости к самой себе, чутья и вкуса… Есть большая разница между свободой и развязностью. Мария Вега, бесспорно, способный человек, но, очевидно, еще не потерявший, — несмотря на эпиграф из Ходасевича, — вкуса к той декоративности, которой в поэзии грош цена.
Приятны, хоть и однообразно-мелодичны «Зовы земные» Артуа. Экзотична на гумилевский лад поэма Арсения Несмелова «Через океан». Несколько утомляет нарочитым, дубоватым пафосом (напоминающим среднего «стандартного» Брюсова) «Варшава», поэма Гомолицкого, за подписью которого попадались стихи значительно более глубокие, если, не по мысли, то по интонации и напеву.
Самая удачная книжка, пожалуй, «Уход» Зинаиды Шаховской. Не уверен, что в ней больше таланта, чем, например в поэме Несмелова… Но эти стихи современные по внутреннему, душевно-культурному их уровню и внешним приемам. Кроме того, они очень характерны для эмигрантских литературных настроений, а уловить такие общие «веяния» тоже не всякому дано.
Есть чувство, более обидное для всякого человека, — в особенности писателя, художника или артиста, — чем открытое отрицание или вражда. Есть отношение, с которым никогда не примирится поэт: это — снисходительность, готовность одобрить, поощрительно и чуть-чуть свысока улыбнуться, как бы «потрепать по плечу…» Не будет ли так встречена поэзия Н. П. Гронского, только что скончавшегося? Опасность этого несомненно существует. Юноша трагически погиб, писал стихи, скрывая их от всех, выразил в стихах свои смутные предчувствия, — как же тут не умилиться заранее, еще не прочтя ни строчки, как же не настроиться на сентиментально-всепрощающий лад! «De mortius aut bene…», — «не рыдай так безумно над ним, хорошо умереть молодым», — и пр., и пр.: в результате мы склонны отделаться грустным, благожелательным вздохом, сказать несколько рассеянных слов насчет оборвавшихся надежд или бренности земной жизни, — и перейти к очередным делам.
Каюсь, именно с таким чувством принялся я читать в рукописи ту поэму, которую мы сегодня печатаем. До самой смерти Н. П. Гронского я не слышал даже, чтобы он писал стихи, и почти ничего не знал о нем, как о человеке… Но сразу же, с первых строф, исчезла безотчетная «снисходительность», уступив место подлинному вниманию. И если мне теперь хочется повторить слова о несбывшихся, развеявшихся надеждах, то уже не в порядке обычного надгробного славословия («eloge funebre», — говорят с какой то уравнительной, безразличной вежливостью французы, отлично зная, что общеобязательность уничтожает ценность «эло-жа»), а всерьез и с твердой уверенностью.
Не буду преувеличивать. Конечно, в поэме Гронского заметен недостаток литературного опыта; конечно, она написана человеком, о котором еще можно сказать, что слово чаще владеет им, чем он владеет словом… Имею в виду не какие-либо отдельные технические промахи, вроде той или иной сомнительной рифмы, может быть и уместной в поэзии вольной, но режущей слух в стихах такого традиционного, почти ложно-классического склада; и не типично-юношеское пристрастие к внешне-торжественным словам и оборотам речи. Нет, говорю о некоторой постоянной невнятице текста, невнятице, вызванной, разумеется, тем, что автора стесняет и сковывает стихотворная форма, и что, по гейневскому выражению, он еще «влачит крылья по земле вместо того, чтобы летать». Но умение «летать» пришло бы со временем. Со временем поэт, вероятно, не только понял бы, но и внутренно ощутил связь между простотой и свободой. Ему, во всяком случае, было что в себе укрощать, что «опрощать», что обтачивать и от чего отказываться. Это главное: у него была натура, и писал он стихи, очевидно, не только потому, что на свете существуют карандаши и бумага, но по глубокой, неодолимой потребности.
В поэме Гронского есть редкое свойство: она с первой до последней строки проникнута творческим напряжением, которое невозможно подделать. Оно-то и заставляет насторожиться, и не дает вниманию ослабеть, несмотря на явные описательные длинноты.
Хорошо, когда молодой поэт пишет так, хорошо, когда, читая его, чувствуешь, что стихи эти продиктованы сознанием, по настоящему взволнованным, жаждущим подъема, готовым на риск и на жертву, способным на самозабвение. «Блажен, кто смолоду был молод», одним словом — и кто, будучи одарен словесно и поэтически, не растратил сразу же своего дара на изящные и приятные пустячки, на игрушечные удачи и кукольные достижения. «Поэзия вовсе не то», — хотелось бы сказать многим стихотворцам, преждевременно осторожным и расчетливым. Поэзия требует порыва, и добиться в ней чего-либо можно, только отдав ей всего себя, не отделяя ее от своей жизни, питая одно другим. Кажется, Гронский это знал: оттого-то со смертью его и оборвались «надежды»… Никто не может точно определить, сколько кому дано было таланта. Никто не вправе делать какие-либо предсказания иначе как с тысячью оговорок. Единственное, что мы безошибочно чувствуем: стоит ли человеку писать, надо ли ему упорствовать на этом тягчайшем, — как заметил еще насмешливый Кантемир, — пути к славе, есть ли ему «что сказать». Думается, в данном случае сомнений быть не может — и печально лишь то, что говорить все это приходится уже в прошедшем времени.
Несколько дней тому назад в Париже состоялся диспут, посвященный советской литературе. Тема как будто бы привычная и знакомая. Привычен и знаком был и состав участвующих: те же имена, вот уже лет десять повторяющиеся в разных комбинациях на всех литературных собраниях. Ничего непредвиденного… Но, очевидно, давно уже образовались в нашей здешней среде какие-то глубокие расхождения, и, вопреки ожиданиям, прения на собрании приняли острый и страстный характер. Были удивлены слушатели. Были, кажется, удивлены и некоторые из участников диспута, успевшие отвыкнуть в благодушно-любезной (вернее: равнодушно-любезной) эмигрантской обстановке от атмосферы прежних русских литературных споров.
Доклад прочел М. Слоним. Это не было объективное изложение фактов, это была какая-то курьезная исповедь, лирическая по отношению к самому себе, агрессивная и запальчивая в части сведения счетов с воображаемыми противниками. Докладчик обстоятельно рассказал о чужих оплошностях в оценке советской литературы и о собственных своих безошибочных прогнозах в той же области, затем подчеркнул бесстрашие своей критической мысли перед коалицией врагов и, наконец, дал урок того, как надлежит относиться к творчеству писателей, живущих и работающих в СССР. К концу доклада все почувствовали некоторую неловкость и смущение. Несмотря на лучшие намерения оратора, вывод получился такой, будто все в России обстоит превосходно, культура процветает, литература расцветает, достижениям нет предела, завоеваниям нет границ, и если бы все, подобно докладчику, приняли советскую словесность своей, родной и близкой, то разделили бы и его восторженные оценки. Съезд — великое событие, романы из «Красной нови» и «Нового мира» если не сплошь шедевры, то все же интересны и замечательны по всякого рода сдвигам, в них отраженным. Даже больше: русская классическая литература с ее задатками любви, нравственного подъема и человечности нашла в лице литературы советской свою законную достойную преемницу. Правда, Слоним говорил об этих заветах настолько популярно и расплывчато, что порой тянуло усомниться: да верит ли он в них на самом деле? Но мысль о преемственности была ясна во всяком случае, — и насчет ее сомнений не осталось. После доклада открылись прения, как я уже сказал, довольно острые и страстные. Докладчик почти ни у кого не нашел полной поддержки. Во всех речах сквозило недоумение, вызванное, главным образом, его прямолинейностью и стремлением в каких-нибудь полтора часа распутать сложнейший клубок, разрешить труднейший вопрос, — будто перед ним не область, полная болезненных противоречий, а задача из Малинина и Буренина, черная доска, мелок и учитель, готовый поставить прилежному ученику пятерку. Не в том беда, что Слоним ошибся: на этот счет могут быть разные мнения. Беда в том, что он не заметил сложности задачи и существования нескольких ответов на нее, каждый из которых удовлетворен не вполне, точен не совсем, приемлем лишь с оговорками. Обобщим: кто требует твердой, неизменно одинаковой принципиальности в этих делах, едва ли отдает себе отчет в сущности своих требований. Одна революция, одна литература, сами по себе, каждая в отдельности, — понятия и явления достаточно сложные, чтобы нельзя было, говоря о них, что-либо рубить с плеча. А когда они сплетаются, — это становится тем более опрометчиво.