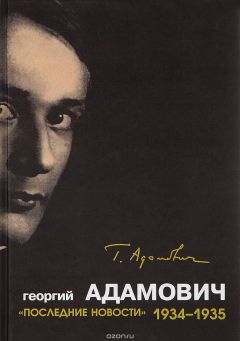Так далеко, разумеется, как в 1913 году, не пойдешь. На обоях сборника не напечатаешь, шрифта
величиной во всю страницу не выберешь. Все это были досадные эксцессы, которые теперь, в свете победоносного социализма и ленинско-сталинских указаний, обнаружили с полной ясностью свою мелкобуржуазную, классово-упадочную природу. Но сердцу не прикажешь. Порезвиться все-таки тянет, — хоть скромно, хоть робко, в расчете на то, что «массовый читатель», может быть, и не заметит шалости. Есть в этом что-то жалкое, полусмешное, полутрогательное.
* * *
Книга составлена давними соратниками Маяковского — Асеевым и Бриком. Первый — известный стихотворец. Второй — человек неопределенной литературной специальности, мало даровитый, но очень юркий, самоуверенный и ловкий, на Маяковском, в сущности, и сделавший карьеру. Брик никогда писателем не был, но всегда вертелся около литературы, — с таким видом, что, если бы он, мол, только пожелал что-либо написать, то всех заткнул бы за пояс. В сборнике напечатана его драма «Камаринский мужик»: очевидно, сообразительность начинает изменять Брику. Было бы для него гораздо лучше, если бы он по-прежнему продолжал молчать, ограничиваясь редкими высокомерно-сердитыми статейками или невинными упражнениями формального толка: это убогое и нелепое «действо» способно подорвать его шаткий авторитет, основанный на мистификации. А Маяковского, который, может быть, поддержал бы приятеля, уже нет.
Конечно, если останется в нашей литературе имя Маяковского, — в чем, при любых оговорках, при наличии каких угодно «особых мнений», невозможно все-таки сомневаться, — если останется в нашей литературе имя Маяковского, то не будет забыто и имя:
Брик. Но не «его» имя, а «ее», — имя Лили Юрьевны, женщины, с которой связана вся жизнь покойного поэта, женщины, бывшей ближайшим и долголетним другом его. Касаясь этого, я как будто бы вторгаюсь в область частную, еще никакому освещению не подлежащую. Но сама Л. Ю. Брик, в том же альманахе, о котором я говорю, вспоминает и рассказывает историю своей дружбы с Маяковским в духе такой непринужденной откровенности, что всякая «дискретность» с нашей стороны становится излишней. Да ведь никогда ни для кого, сколько-нибудь знакомого с литературной жизнью и бытом, эта страстная дружба и не была тайной, даже тем, что называется «секрэ де полишинель». И Маяковский, и сама Л. Ю. всячески ее афишировали.
Отрывки из воспоминаний Л. Ю. Брик — бесспорно самое интересное и, пожалуй, единственно живое, что есть в книге.
Странный человек — автор этих мемуаров. Душа богатая и капризная, по-женски властная, с глубоко-жизненным инстинктом кокетства во всем, чем только можно пококетничать, и в то же время резкая в правдивости, насмешливая, суховатая, как бы «подрезанная на корню». Это женский тип, сам по себе не очень оригинальный, распространенный со времен «декадентства» в нашей писательски-ар-тистической и, особенно, богемной среде, — тип, осложненный, однако, у «Лили» Брик чем-то личным, остро-индивидуальным. Конечно, она была родственнее раннему анархическому Маяковскому, чем присмиревшему агитатору периода «нигде, кроме как в Моссельпроме», — и в своих записках она как бы тянет Маяковского обратно, в эту свою богему, пусть и мелкобуржуазную, но еще не похожую на казармы.
По тону своему записки Брик резко выделяются среди всего другого, что до сих пор написано о Маяковском, и хотя, конечно, никакой прямой «контрреволюции» в них не найти, все-таки, с непривычки, удивляемся появлению таких воспоминаний в Москве, в 1934 году, в дни расцвета литературы благонамеренной и осмотрительной. Л. Брик не столько рассказывает, сколько «болтает», давая понять, что с нее нечего спрашивать: она ведь и с князьями завтракала (впрочем, князь оказался «проходимцем и мошенником»), она ведь и «элегантна» была на редкость, она и чуть было к Распутину не сходила в гости, по его личному приглашению, — и, представьте себе, при всех этих ужасах ничуть не страдала от загнивания капитализма и не изучала Эрфуртской программы! Нас так усердно стараются приучить к мысли, будто вся Россия до 1917 года только и жила смутным, взволнованным предчувствием пришествия Сталина, что когда кто-нибудь признается в своей косной отсталости, это кажется безрассудством или подвигом.
* * *
В мемуарах Брик, напечатанных пока еще только в своей «дореволюционной» части, много интересных или забавных замечаний, наблюдений и мелочей.
Первая встреча с Маяковским и чтение «Облака в штанах», от которого все «обалдели». Эпизод с Бе-ленсоном, издателем альманаха «Стрелец», этот «“препротивный мальчишка” поместил Володину статью рядом с антисемитской статьишкой Розанова». Володя вознегодовал, а Беленсон, при встрече, ему сказал:
— Прочел ваше письмо, вы дурак!
Володя «разъярился», но, из предосторожности, дал Беленсону оплеуху только через два года, когда
настала революция. Облик Хлебникова, Чуковский, доклад о футуризме у Кульбина — и многое другое…
* * *
По-своему интересна и статья Л. Кассиля «На капитанском мостике»: рассказ о том, как Маяковский держался на эстраде.
Разделить восхищение Кассиля трудно: он как будто забывает, что речь идет о поэте, а не об актере — импровизаторе, фокуснике, присяжном остряке, любимце публики и вообще каком-то «душке» на новейший лад. Маяковский, действительно, был великим «мастером эстрады», — если выражаться советским стилем: он великолепно читал свои стихи, настолько великолепно, что нередко ему удавалось выдать плохие стихи за хорошие (тут я вполне согласен с Л. Брик: впечатление бывало «потрясающее», но на следующий день, над печатным текстом, не оставалось от былого потрясения почти ничего). Он чрезвычайно находчиво отвечал на замечания с мест или на записки, он с изощреннейшей язвительностью издевался над оппонентами. В качестве митингового оратора, со своей громовержущей глоткой, он был бы, вероятно, незаменим и неподражаем. Но слушать его часто было неловко, даже мучительно.
Не буду объяснять, почему. Приведу только несколько выдержек из записок Кассиля, — надеюсь, все станет ясно.
«Маяковскому жарко. Он снимает пиджак. Он аккуратно складывает его на стол. Он подтягивает брюки.
— Я здесь работаю, мне жарко. Имею право улучшить условия работы. Безусловно.
Молниеносные ответы разят пытающихся зацепить поэта. “Маяковский, — вызывающе кричит молодой человек, — вы что, полагаете, что мы все идиоты?» — «Ну что вы, — кротко удивляется Маяковский, — почему все? Пока я вижу перед собой только одного». Некто в черепаховых очках взбирается на эстраду и принимается утверждать, что Маяковский «уже труп, и ждать от него нечего». — «Вот странно, — задумчиво говорит вдруг Маяковский, — труп я, а смердит он». — «Я должен напомнить товарищу Маяковскому, — горячится толстый человек, — истину, которая была известна еще Наполеону: от великого до смешного один шаг». И в ту же секунду Маяковский, по слоновьи подняв ногу, молча, в один огромный шаг перемахивает через расстояние, отделявшее поэта от растерявшегося говоруна.
— От великого до смешного один шаг, — надрывается от хохота зал. «Маяковский, как ваша настоящая фамилия?» Маяковский с таинственным видом наклоняется к залу. — «Сказать? — Пушкин». — «Стыдно вам, Маяковский, ругать Пушкина, помните, как к нему Николай приставал!» — «Николай приставал не к Пушкину, а к его жене», — невозмутимо басит Маяковский. — «Маяковский, ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Бессмертие не ваш удел». — «А вы зайдите через тысячу лет, там поговорим». — «Ваше последнее стихотворение слишком длинно». — «А вы сократите, на обрезках можете составить себе имя». Маяковский, мы с товарищем читали ваши стихи, ничего не поняли». — «Надо иметь умных товарищей». — «Маяковский, каким местом вы думаете, что вы поэт революции? — “Местом диаметрально противоположным тому, где родился этот вопрос»…
Конечно, все это может нравиться, пленять и очаровывать. Многим и нравится. О вкусах не спорят. Но, в сущности, нельзя назвать всю эту эстрадную и фиглярскую виртуозность иначе, как культивированием того печального человеческого свойства, имя которому дано одним из трех сыновей библейского Ноя.
* * *
Человек же был все-таки необыкновенный. И необыкновенный был поэт, — хотя и того грубого, ораторского, декламационного склада, с которым примиряешься лишь на высших ступенях его развития. Я не чувствую никакого желания щеголять парадоксами, но сказал бы все-таки, что в идеале и завершении своем Маяковский восходит к Виктору Гюго, — конечно, не по идейному содержанию своей поэзии, а по жанру и духу ее. Есть люди, боготворящие Гюго, и есть другие, засыпающие над ним. То и другое возможно — и даже естественно, — и по отношению к Маяковскому.
Асеев в своей статье служит Маяковскому дурную службу, отрицая у него всякую духовность и даже душевность, пытаясь превратить его в рядового рифмача-истукана. Он отказывается полемизировать на эту тему с «врагами». Не будем и мы полемизировать с ним.