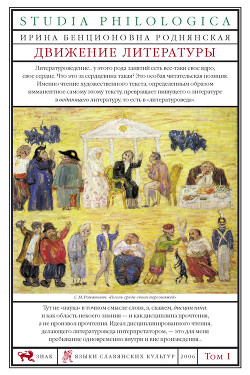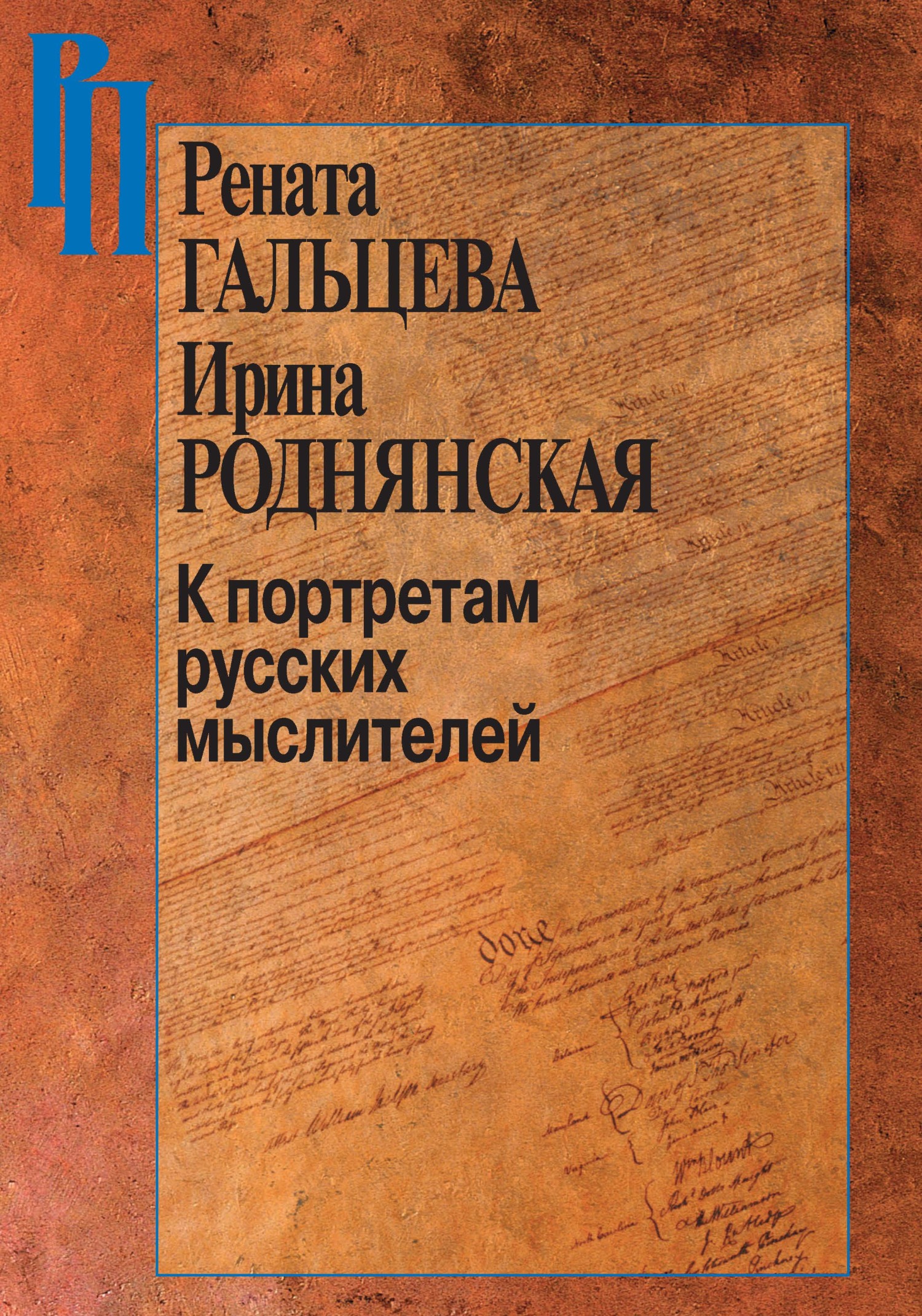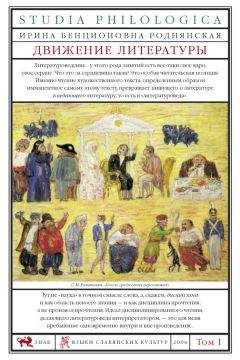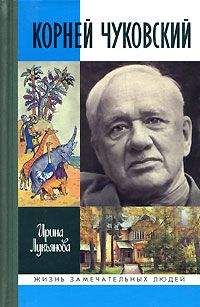… Все это навеки таинственно, но вместе с тем и понятно даже без чтения стихов Владимира Соловьева о Подруге вечной и без знакомства с Платоновым учением об эросе (тем и другим юный Блок подкреплял уверенность в своем «откровении»). Понятно, потому что всечеловечно, и, пройдя через этот опыт, поэт получает всечеловеческую отзывчивость, получает через одно – все: «… в одном луче, туман разбившем, в одной надежде золотой…»
Что произошло потом, можно уяснить, только вставив личную судьбу Блока в раму эпохи. Блок не понял смысла этой посвященности, какую знали и верно понимали и Гёте, и Пушкин. Он символ принял за факт, призванность к поэтическому служению, смиренно совершающемуся в области слова, в области культурных смыслов, – за обещание «сверхслов» и «сверхобъятий» (взволнованная запись в его тогдашней тетрадке).
Это «сверх», эта идея таинственного преображения коренных условий жизни средствами теургии, «сверхискусства» тревожила умы младших символистов и возбуждала в них почти сектантскую экзальтацию. [170] И Блок знал, что́ говорил, когда в декабре 1918 года обращался к Маяковскому: «Разрушая, мы все те же еще рабы старого мира… Над нами – большее проклятье (чем памятники старой культуры. – И. Р.), мы не можем не спать, мы не можем не есть». Когда-то, в 1901–1902 годах, юноша, опьяненный естественным откровением любви, связал свой пафос влюбленности с жаждой перемен, охватившей его культурную среду, освятил эту связь изречениями из стихов Соловьева и из Апокалипсиса и вообразил в себе начаток той силы, которая снимет (с избранных ли? со всех?) «большее проклятье» и откроет двери в царство «сверхъеды», «сверхбрака», «сверхобщества», в царство некой сверхжизни, по ту сторону времени, истории, культуры, быта. Известны сокрушенные слова Блока, сказанные им в 1910 году в докладе о состоянии русского символизма: «… были “пророками”, пожелали стать “поэтами”». Вернее бы сказать обратное: был призван как поэт, согласился стать «пророком», сектантско-символистским «теургом». Упомянутый доклад Блок закончит такими словами: «Художник должен быть трепетным в самой дерзости, зная, чего стоит смешение искусства с жизнью, и оставаясь в жизни простым человеком». Но прежде чем Блок дорос до этих умудренных слов, он пережил срыв; «смешение искусства с жизнью» обошлось ему дорого.
Блок, вспоминают знавшие его, не любил тех своих читателей, кто выше прочего ценил поэзию «второго тома». Из нашего символического путеводителя – стихотворения «Как свершилось…» – узнаём, что это была полоса, когда он чувствовал себя окруженным «сонмами чудовищ» и «покинувшим стражу» ради пиршества во вражеском стане – ради того самозабвенного кружения и распыления, в какое ввергается душа, настроившаяся было на вечный, сверхвременный праздник, но столкнувшаяся с упорным течением будней.
Как затем удалось Блоку салонные все же образы «снежного вина», черного шлейфа и «тяжелозмейных волос» так мгновенно, в пределах одного увлечения, одного жизненного и творческого цикла, переключить в несоизмеримо иной ряд – рябина, обрыв, река, Фаина, узорный рукав, раскольничий скит, удалая песня? Метаморфоза была обеспечена глубоким отзвуком первой русской революции: поэт слил, отождествил с любовным опьянением «восторг мятежа», с эротической пыткой – «раскольничье» страстотерпчество, со свободой страсти – удаль народной стихии. И тут, в этом стихийном русле, вновь притекла, вернулась к Блоку русская тема – как светлая, первоначальная, связанная не с «пиром», а с «домом», с «единственной на свете», тема, и раньше уже проступавшая в «Стихах о Прекрасной Даме» сквозь все тона рыцарского миннезанга.
Здесь не избежать одного отступления: о блоковской схеме собственного пути, которую он неоднократно пересозидал в порывах самопроверки и самооправдания. [171] Известно, что Блок свои стихи в совокупности рассматривал как дневник. Еще до 1914 года он разделил корпус своей лирики на три тома – на три этапа «вочеловечения» своего поэтического духа – и уточнял наполнение каждого тома, организацию отделов внутри томов до конца дней. Притом, имея потребность оглядываться на свою дорогу, внушать себе с каждым ее поворотом, что «так надо», что «стою на твердом пути», Блок, как мне кажется, злоупотребил этой вторичной творческой волей, волей к самоинтерпретации постфактум. Ведь прожитое время не в нашей власти, и новая композиция, созданная из перетасовки листков лирического «дневника», вовсе не дневник уже: в ней художественное задание преобладает над непроизвольным человеческим самораскрытием. Своим лирическим фондом Блок опять-таки распорядился как артист. И самым, на мой взгляд, радикальным было смещение написанного в 1908 году цикла «На поле Куликовом» к концу третьего тома.
Объединяя в разделе «Родина» стихи 1907–1916 годов, из коих первое еще несет на себе юношеский отсвет «несказа́нного» и шахматовских закатов, а последнее, «Коршун», резюмирует блоковские «Ямбы» с их «зрелостью гнева» и «обещанием мятежа», ставя этот раздел в непосредственное преддверие поэм «Возмездие» и «Двенадцать», Блок показывал, что конечный плод его пути, его работы над собственным человеческим материалом – это трагический человек, разомкнутый навстречу судьбе и всецело отданный историческим путям своей отчизны на их высотах («И горит звезда Вифлеема / Так светло, как любовь моя») и низинах («Грешить бесстыдно, непробудно…»), в смиренной прелести («Осенний день», перекликающийся с тютчевским «Эти бедные селенья») и в надсадном негодовании («Доколе матери тужить?!»). В таком виде раздел «Родина» и подготавливает финал трехчастной лирической симфонии Блока.
Но внутренние, тайные пути духа были закрыты этой компоновкой раздела, точнее – удалением «Куликова поля» из хронологического центра блоковского «дневника». Потому что для понимания реального пути Блока важно знать, что прорезавшаяся тогда, в 1908 году, посреди ветровых «татарских» кликов русская тема «стояния на страже», священной брани, доблести и подвига – она-то и разбудила в душе поэта тоску по прежней «неколебимой истине», способной изгнать всяческую нежить. 1909–1913 годы – предрассветные «ночные часы», борьба за высвобождение совести, за вызволение ядра личности из воронок анархического дионисийства.
Было долгое томленье.
Думал я: не будет дня,
Бред безумный, страстный лепет,
Клятвы, пени, уверенья
Доносились до меня.
Но, тоской моей гонима,
Нежить сгинула…
Знак того, что она сгинула, – пролог к «Возмездию» (весна 1911 года), где Блоку удалось с новой мужественной энергией подытожить не только мотивы «Ямбов» («Дроби, мой гневный ямб, каменья!») и «Куликова поля» («… над нашим станом, / Как встарь, повита даль туманом / И пахнет гарью. Там – пожар»), но и «Прекрасной Дамы», и притом не в прежней вечерней, а в утренней аранжировке:
Пусть церковь темная пуста,
Пусть пастырь спит;
Я до обедни
Пройду росистую межу,
Ключ ржавый поверну в затворе
И в алом от зари притворе
Свою обедню отслужу.
… А потом происходит то, о чем мы уже читали в обращении «К музе», – Блок цепенеет под дневным небом в совестной трезвости рассвета:
День жестокий, день железный
Вкруг меня неумолимо
Очертил замкнутый круг.
Нет конца и нет начала,
Нет исхода – сталь и сталь.
И пустыней бесполезной
Душу бедную обстала
Прежде милая мне даль.