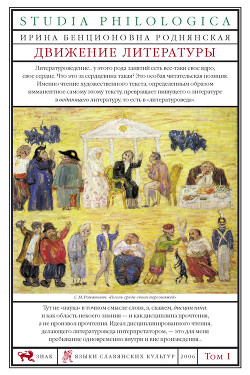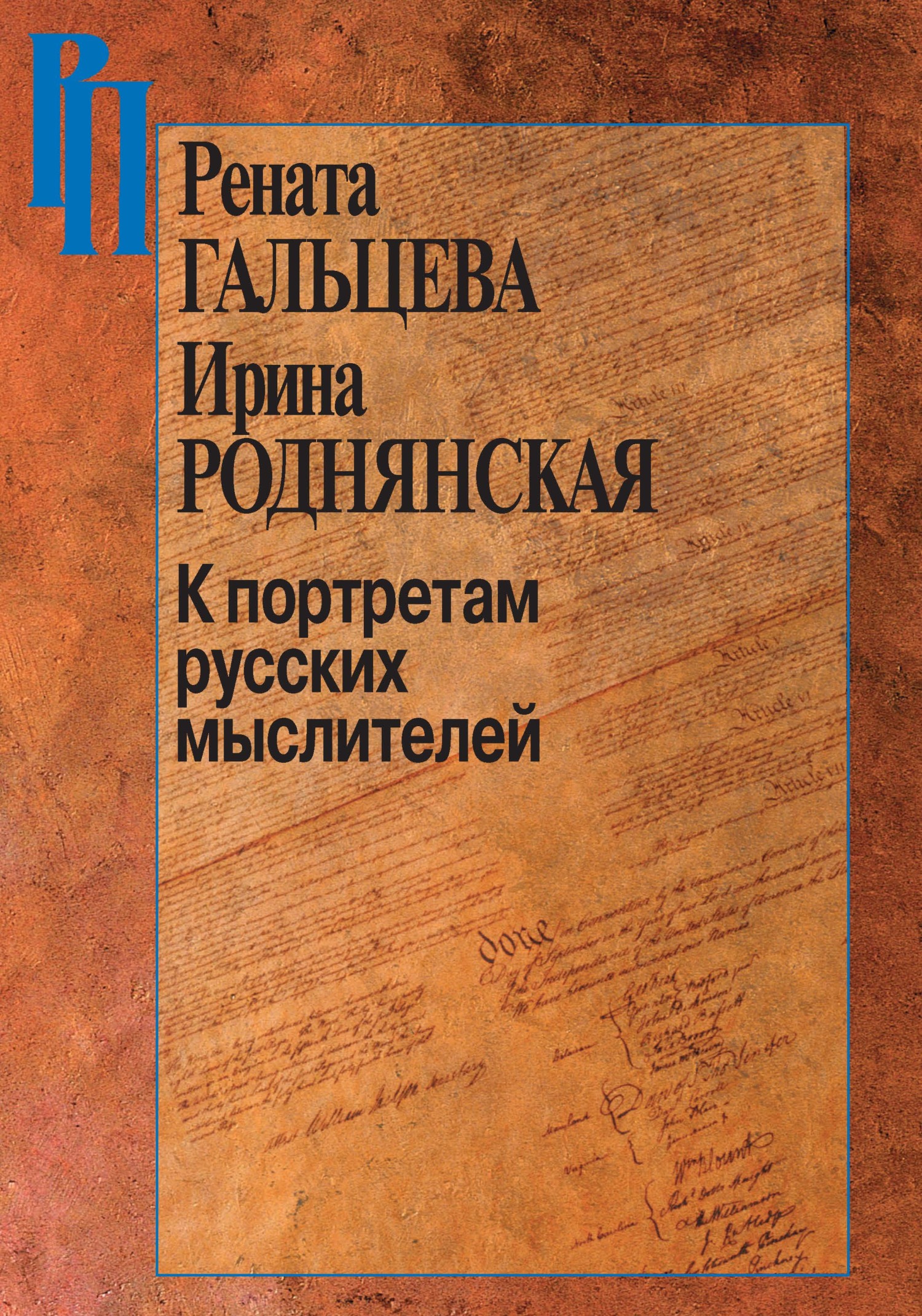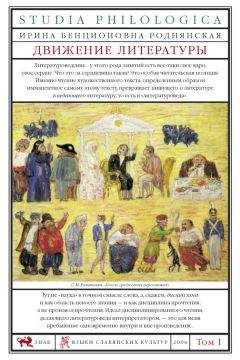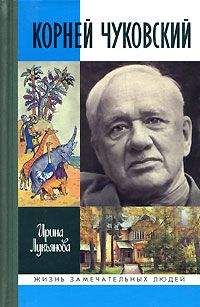В стихах этого времени многократно совершается одно и то же душевное движение: рывок навстречу дневному осознанию себя – ужас перед обетом, видно уже неисполнимым (как он дан в докладе 1910 года: сосредоточенность, ученичество, «простое» существование), потом мучительная заминка («… с трезвой, лживою улыбкой») – и податливая готовность души ввергнуться в новое завихренье. Маятник этот раскачивается все с большей амплитудой, пока не достигает к концу 1913 года того страшного предела, когда еще одно повторение цикла становится невозможным.
Не таюсь я перед вами,
Посмотрите на меня:
Я стою среди пожарищ,
Обожженный языками
Преисподнего огня.
Не правда ли, в этой предпоследней строфе исповеди «Как свершилось…» слышится покаянная интонация Раскольникова, целующего при стечении народа землю: «не таюсь…», «посмотрите…». Но в самом конце крутой перелом, отбрасывающий вспять:
Где же ты? Не медли боле,
Ты, как я, не ждешь звезды.
Приходи ко мне, товарищ…
Как знаком по «Двенадцати» этот тон братания с такими же отверженными! «Один бродяга сутулится, да свищет ветер… Эй, бедняга! Подходи – поцелуемся…»
Итак, на пути совестном Блоку как бы не хватает последнего усилия, чтобы добела раскалить этическое пламенем поэзии, – и он окончательно избирает
… безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полет…
Вздохнул, глядишь – опасность миновала…
Но в этот самый миг – опять толчок!
Запущенный куда-то, как попало,
Летит, жужжит, торопится волчок!
Как страшно все! Как дико! – Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять.
Это написано в 1912-м, но именно после 1913 года зазвучала в оркестре блоковских тем мысль о запоздалом раскаянии, об опамятовании, которое уже бесполезно. В стихах 1915 года у него «говорят черти»: «Ты, в исступленном покаяньи, проклясть замыслишь бедных, нас?» – так нет же, «станешь падать» – тебя толпою подхватим… И разве не та же самая необратимость прожитого определила в 1915 году развязку «Соловьиного сада»? Возвращение на кремнистый, страдный, нищий, правый путь в этой поэме оказывается напрасным, жертва за душу хватающим полетом – ненужной; жизнь уже не приняла твоего возвращения, отвергла и вытеснила блудного сына.
… Если снова обратимся к признаниям Блока, обнаружится, что бок о бок с «неколебимой истиной» в душе Блока жило еще одно начало, которое он на своем символическом языке именовал то гибелью, то бездной, то полетом.
В письме 22 октября 1910 года Андрею Белому: «Я всегда был последователен в основном… Я люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви… я последователен в своей любви к “гибели” (незнание о будущем, окруженность неизвестным, вера в судьбу и т. д.)». О том, что «выход в бездне», существует и ранняя дневниковая запись. Вспомним также юношеские строки:
Пусть одинок, но радостен мой век,
В уничтожение влюбленный.
Да, я, как ни один великий человек,
Свидетель гибели вселенной.
Столько же, сколько «идея пути» (а значит, долга, страды, искуса, мужества, «долг – это единственная музыка», – пишет он жене), владела духом Блока идея «сверхпути»; паренья, полета – или падения. Только как некий абсолютный сверхпуть, простор на все четыре стороны, можно, должно быть, истолковать загадочный образ сияющего небесного бездорожья в ранних стихах: «Мы помчимся к бездорожью / В несказанный свет», «Предо мной – к бездорожью / Золотая межа», «Сердце переносится / В дали бездорожья». И таким же – но не солнечным, золотым, а синим, астральным – бездорожьем замыкается в 1914 году предвоенная лирика Блока, его последний, «слепо-стихийный» любовный цикл: «Сама себе закон – летишь, летишь ты мимо, / К созвездиям иным, не ведая орбит… Все – музыка и свет; нет счастья нет измен… / Мелодией одной звучит печаль и радость… / Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен».
Если бы я дерзнула дать имена трем томам поэзии Блока, первую книгу я назвала бы «Дом»: шахматовский дом, мир как дом, даже небеса, как красноверхий терем (недаром именно теремной заставкой открываются «Стихи о Прекрасной Даме»); да и Петербург как здание, как ряд соборов с гулкими ступенями или помещений, где хлопают дверьми и шатается в окошках свет, – а не тот город болотистых окраин, снежной пелены и ветров, дующих с залива, каким увидим его после. Во втором томе герой бражничает на жизненном «Пире», ярком, праздничном, но и гибельном, «буйном». В третьем выясняется, что с пира дороги домой уже нет: «Старый дом мой пронизан метелью…». От «дома» остается только острая грусть воспоминаний («Там неба осветленный край…», «Приближается звук…», обращенный к жене изумительный цикл 1915 года, который Блок укрыл от взоров – разнес по разным отделам третьего тома) и острый луч первоначального напутствия («Но в страстной буре, в долгой скуке / Я не утратил прежний свет»). Герой третьего тома обращен к «Миру». Но тут дает о себе знать тайный кризис, пережитый в начале десятых годов: мучительная высота этического напряжения – и невозможность связать его с поэзией, с музыкой «мирового оркестра», а потому и «неудача» этого напряжения. При исходе героя в «мир» образы совестливого самоотречения (отказ от «уюта») и сокрушения сплетаются с образами эстетизированного рока, с мелодией сладкой гибели в «красном облаке дыма». Финальные главы творчества Блока развертывались под этим двойным знаком.
Свою душу, человечески прямую и правдивую, причастную «добру и свету», сам Блок противопоставлял эстетике роковых стихий, влекущих его по катастрофическим путям. Вспомним еще раз слова из его письма: «… руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет только моя душа». И далее там же: «Душа моя – часовой несменяемый». Но и высокая его душа таила изменчивое, подвижное, неуследимое начало – и потому не могла долго стоять на часах…
Это была душа русского интеллигента, выпестованная как бы нарочно и показательно всеми десятилетиями становления и надлома интеллигентской психологии. Слишком много идейных вер наслоилось в ней, чтобы быть ей часовым «единственного». И это была душа поэта, а поэт – эхо, и он не может не жить в мире многообразно рассеянных отзвуков. Но недаром обрывок пушкинской строки из «Эха» («… свой отклик в воздухе пустом») невольно пришел Блоку на ум, когда перед ним возникло видение рушащегося вниз авиатора:
Ищи отцветшими глазами
Опоры в воздухе… пустом!
В Пушкине воздушность, летучесть вездесущего «эха» дополнялась человеческой социально-культурной «осадчивостью», оседлостью: «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» – основа «самостоянья», стоянья человека. Та же любовь-привязанность приняла в душе Блока формы мучительные, трагические и подпала отрицанию как недолжная, внедуховная любовь к собственному достоянию, любовь «к своему». Тут человек в нем сорвался с привязи и прянул вслед за поэтом.
В 1911 году Блок записывает в дневник: «Знаю все, что надо делать: отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу». А в январе 1918 года он обращается к интеллигенции с тем же, по существу, призывом, с каким к себе семь лет назад: «У буржуа – почва под ногами определенная, как у свиньи – навоз: семья, капитал, служебное положение, орден, чин, бог на иконе, царь на троне. Вытащи это – и все полетит вверх тормашками. У интеллигента, как он всегда хвалился, такой почвы никогда не было. Его ценности невещественны. Его царя можно отнять только с головой вместе. Уменье, знанье, методы, навыки, таланты – имущество кочевое и крылатое. Мы бездомны, бессемейны, бесчинны, нищи – что же нам терять?» Так в Блоке, не только великом поэте России, но и величайшем поэте русской интеллигенции, пушкинский певец-Эхо подает руку «мыслящему пролетарию» Д. И. Писарева. Оба жительствуют в воздухе.