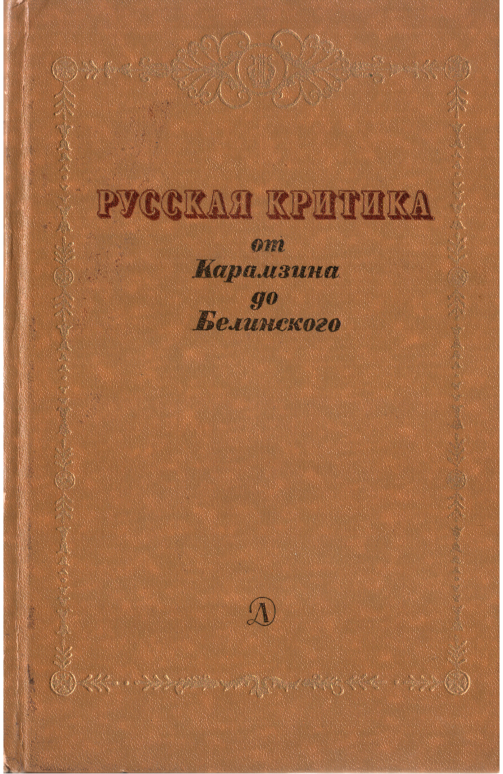ее странностями, причудами и капризами. Нет нужды, что фигуры, из коих она составлена, не движутся драматическою жизнию; их физиономии, изображающие различные оттенки московского быта, так верно схвачены, так резко обрисованы, так счастливо поставлены, что невольно засматриваешься, признаешь подлинники и хохочешь. Все стихии московской паркетной жизни имеют в ней своих живых, списанных с натуры, представителей. Это панорама гостиных Москвы, неподвижная, но выразительная, яркая, живописная!
Итак, вот где корень удовольствия, с коим «Горе от ума» принималось, принимается и будет приниматься! Произведение сие, несмотря на свою сценическую несообразность, может долго держаться и иметь зрителей, как живой документ из летописей общественной жизни. Его захочется повидать и нашим детям, как нам ныне хочется видеть изредка «Недоросля». Обе сии пьесы останутся для потомков наших любопытными фактами, по коим они будут определять ход и постепенность нашего просвещения. В течение пятидесяти лет, разделяющих эти два произведения, наша общественная физиономия, конечно, значительно изменилась: но это изменение относится только до ее наружности; фонд остается пока тот же. Без сомнения, есть дистанция между Простаковым и Фамусовым, между Тарасом Скотининым и Сергеем Сергеевичем Скалозубом; но это «дистанция» не «огромного размера»! Одно и то же начало двигает их мыслями и действиями:
Ученье вот чума!
Это начало, вырощавшее прежде в степной глуши Митрофанушек, не умеющих различить существительного и прилагательного, производит ныне на вылощенном паркете Репетиловых, которые «вшестером лепят водевиль» и готовы о «всем» сказать и написать «нечто». Конечно, заря истинного просвещения, занимающаяся всюду, гонит это мрачное невежество, но не прогоняет. Может быть, Хлестовой, так живо еще напоминающей Простакову, и не найдешь уже теперь на Покровке, но кто поручится за Басманную? Коротко сказать, «Горе от ума» есть верное повторение современной московской жизни...
Удовольствие сие если не возвышается, то и не ослабляется игрою наших артистов. Не трудно понять, с какими затруднениями должно быть сопряжено сценическое исполнение этой пьесы. Отсутствие драматической жизни в ее составе не может быть иначе заглушено, как художественным, во всех отношениях, выполнением характеристических фигур, ее составляющих. Каждая из них имеет свою особую физиономию, содействующую полноте целой картины; и потому для каждой нужен соответствующий талант, способный изучить и передать ее. Но какой группы достанет на такую многочисленную и разнообразную коллекцию? Должно, однако, сознаться, что, судя по средствам нашей сцены, пьеса вообще обставлена изрядно и идет весьма недурно. Но «Горе от ума» стоит, чтобы всех исполнителей разобрать в частности.
Лица, составляющие сию пьесу, можно разделить на три разряда: первостепенные, второстепенные и третьестепенные. Это разделение основывается не на важности их относительно хода пьесы; ибо, говоря правду, все они принимают в нем равное участие, или, лучше, равно не участвуют; но на большей и подробнейшей выработанности их характерных физиономий.
К первостепенным лицам относятся: Фамусов, Чацкий, Молчалин и Софья Павловна.
Фамусова играет г. Щепкин. Несмотря на его талант, искусство и опытность, должно признаться, что лицо сие исполняется им не удовлетворительно. Что такое Фамусов у Грибоедова? Олицетворенный тип столбового барина, додремливающего спокойно праздную свою жизнь, под шляпой с плюмажем, в ожидании камергерского ключа, за форелями и вистом. Москва, подобно кунсткамере, богата сими любопытными отрывками блаженной старины, сими драгоценными обломками
Времен очаковских и покоренья Крыма.
Их отличительное свойство состоит в флегматической недвижимости, считающейся доселе как бы одной из наследственных привилегий столбового дворянства. Всякое малейшее напряжение, всякая тень работы кажется уничижением для их гордой лености. Это оканчивается тем, что сии почтенные представители нашей аристократии, вступая в пятый класс, разучаются совершенно думать и даже чувствовать. Единственным признаком жизненности остается в них суетливая привязанность к паркетным преданиям и брюзгливое ожесточение против всех нововведений. Таков именно Фамусов Грибоедова! Само собою разумеется, что сценическое исполнение его необходимо требует хладнокровия, так сказать, рыбьего. Но у г. Щепкина весь талант есть огонь. Им согревает он, против своей воли, бездушную фигуру Фамусова: и это сообщает ей совершенно не то выражение. По настоящему характеру Фамусова, он должен здесь уничтожить Молчалина не криком, а холодною, убийственною важностью. Равным образом ему не следует разгорячаться и шуметь слишком на Чацкого во втором акте, затыкая уши. С другой стороны, обращение его с Чацким, в двух первых актах, не должно показывать никак фамильярности. Фамусовы обыкновенно трактуют молодых людей, на которых не имеют никаких видов, с величавостью патронов и наставников. Гораздо вернее выдерживает себя г. Щепкин в разговоре с Скалозубом, хотя и здесь не мешало б ему быть похолоднее и поспокойнее. На своем совершенно месте он только в последнем действии, где истукан, им представляемый, задетый за живое, поневоле должен выйти из себя и вспылить всем, что ни есть в нем человеческого. Здесь мы видим точно Щепкина, по справедливости признаваемого украшением русской сцены. Советуем только ему, для большей верности и сильнейшего впечатления, произносить последние слова, коими заключается пьеса, подумавши, отпустив дочь и собравшись с мыслями. В этих последних словах заключается символ веры Фамусовых!
Чацким был г. Мочалов. Эта роль по его таланту и средствам: нельзя сказать, чтобы г. Мочалов не понимал ее; и, однако, она исполняется им весьма неудачно. Из всех лиц комедии Чацкий менее всех имеет положительной истины. Это не столько живой портрет, сколько идеальное создание Грибоедова, выпущенное им на сцену действительной жизни для того, чтоб быть органом его собственного образа мыслей и истолкователем смысла комедии. Грибоедов дал ему светлый, возвышенный взгляд, пылкое, благородное чувство; но растворил его душу и язык желчью едкости, не достигающей до байроновской мизантропии и между тем возвышающейся над паркетным цинизмом Репетиловых. Это род Чайльд-Гарольда гостиных! Там, где юморизм Чацкого переходит в страстное одушевление, г. Мочалов очень хорош, местами даже прекрасен. Но где должно ему быть спокойнее и обливать свои остроты холодною желчью, там он решительно дурен. Сбиваясь беспрестанно на тривиальность, он представляет из себя трезвого Репетилова. Не обременяем уже его бесполезными требованиями ловкости и развязности, свойственной светскому образованному человеку; но не можем не пожаловаться, что, в роли Чацкого, он как будто нарочно уволил себя от всех приличий, предписываемых людскостью. Хлопать себя по ногам, закидывать назад голову и, наконец, так небрежно разваливаться на креслах — нестерпимо! Заметим также, что и