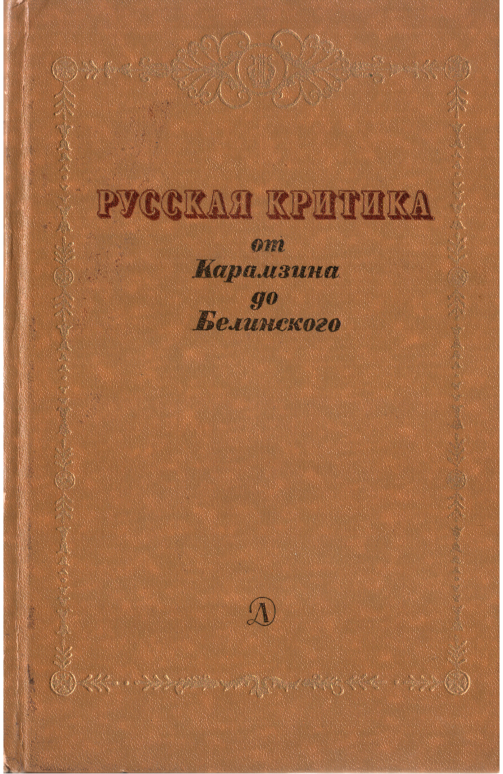силою, но обделенного образованием — этот добродушный вопрос его царевичу: А это что такое Узором здесь виется!..
Или... не слышишь ли ты в этом медленно раскатывающемся взрыве — коим оканчивается глухая исповедь князя Шуйского — весь ужас бури, клокочущей в душе его:
Подумай, князь! Я милость обещаю. Прошедшей лжи опалою напрасной Не накажу. Но если ты теперь Со мной хитришь, то головою сына Клянусь — тебя постигнет злая казнь, Такая казнь, что Царь Иван Васильич От ужаса во гробе содрогнется.
А!.. Что ты на это скажешь?.. Или — ты спишь никак...
Тлен. Совсем нет! я, напротив, тебя заслушался! продолжай, продолжай!.. Переметывай кадило...
Я. Да я совсем не шучу с тобой. Что ты на это скажешь?
Тлен. А — что ж такое! Если б Борис сам и действительно был представлен хорошо Пушкиным — так разве он один там только. Ну — а прочая святая братия...
Я. Шуйский представлен мастерски — отлично!.. Бесстыдная угодливость царедворца выливается ярко на всех его речах и поступках. Ему не стоит ничего отпереться от собственных слов пред прямодушным Воротынским; он выманивает у Пушкина тайну о самозванце и сам несет ее к Борису. Ничто не могло дать лучше и вернее об нем понятия,, как эти слова Бориса, задержавшие клятвы, на которые он готов был рассыпаться:
Нет, Шуйский, не клянись, Но отвечай!..
Тлен. Ну — любезный! очень вижу я, что тебе хочется, наперекор всем, сделать из «Годунова» chef-d’œuvre [42] нашей поэзии...
Я. Ничего не бывало! Я хочу только обличить твою несправедливость к произведению, которое нисколько не унижает таланта, коему обязано бытием своим. Недостатки его, может быть, для меня гораздо более ощутительны, чем для тебя самого...
Тлен. А!.. так это солнце имеет же для тебя свои пятна!.. Укажи-ка их мне, пожалуйста! Я догадываюсь наперед, что это должны быть такие вещи, в коих мы, профаны, находим следы гения Пушкина. Тебя надобно ведь понимать наизнанку...
Я. Зато я сам смотрю с лица на дело!.. Существенный недостаток «Бориса» состоит в том, что в нем интерес раздвоен весьма неудачно; и главное лицо — Годунов — пожертвовано совершенно другому, которое должно б играть подчиненную роль в этом славном акте нашей истории. Я разумею Самозванца. Как будто по заговору с историей, поэт допустил его в другой раз восстать на Бориса губительным призраком и похитить у него владычество, принадлежавшее ему по всем правам. Лицо Лжедимитрия есть богатейшее сокровище для искусства. Оно так создано дивною силою, управляющею судьбами человеческими, что в нем история пересиливает поэзию. Стоит только призвать на него внимание — и тогда все образы, сколь бы ни были колоссальны и величественны, должны исчезать в фантастическом зареве, им разливаемом, подобно как исполины гор исчезают для глаз в пурпуре неба, обагренного северным сиянием. А потому тем осторожнее и бережнее надлежало поступать с ним поэту, избравшему для себя героем Бориса. Это дивное лицо следовало поставить в должной тени, дабы зрение не отрывалось им от законного средоточия. Но у Пушкина, по несчастию, Самозванец стоит на первом плане; и — Борис за ним исчезает: он становится посторонним незаметным гостем у себя дома. Музы наказали, однако, сие законо-преступное похищение в поэзии, точно так же как наказано оно роком в истории. Самозванец выставляется только для того, чтобы показать свою ничтожность. В сценах Пушкина, так же как и на престоле московском, он ругается беспрестанно над своей чудной звездой, как бы нарочно изученною бесхарактерностью. Возьми самую первую сцену, где он является на позорище... сцену в келье Пимена...
Тлен. Ну так! Самая лучшая сцена, какая только есть во всем «Годунове»...
Я. По наружной отделке — не спорю! Но тем для ней хуже!.. Я согласен, что эта сцена, взятая отдельно, есть блистательнейшее произведение поэзии. Она горит мыслями, кипит чувством. Но, по несчастию, ей недостает самой простейшей и самой важнейшей вещи — исторической истины. Ну возможно ли, чтобы старец Пимен, сколь ни много видел он при дворе Иоанновом, мог восторгнуться до того высшего взгляда на судьбы человеческие, которого из всех нынешних французских и немецких систем не мог вычитать, при всей своей досужести, так называемый историк русского народа? [43] Сии высокие мысли:
Минувшее проходит предо мной — Давно ль оно неслось событий полно, Волнуяся, как море-океан? Теперь оно безмолвно и спокойно: Не много лиц мне память сохранила, Не много слов доходит до меня, А прочее погибло невозвратно!
сии высокие мысли — хотя поэт и старался переложить их на древнее русское наречие — обличают в смиренном чудовском отшельнике наследника идей Гердеровых*. Прекрасно, да — не на месте!.. Но оставляя это, как промах, слишком выкупаемый своим относительным достоинством, я не могу извинить ничем той неверности и того беспрестанного противоречия с самим собой, которое представляет лицо Лжедимитрия. В первой сцене, о которой я теперь говорил, он является пламенным энтузиастом, летающим дерзкими мыслями по поднебесью, но между тем еще носящим на себе печать детской простоты, нарезанную иноческим послушанием. В «корчме на литовской границе» — он уже отчаянный разбойник, изученный всем приемам опытного преступления. Непосредственно вслед за тем, у князя Вишневецкого — беглый чудовский монах витийствует пышными фразами о высоком значении поэзии:
Я верую в пророчества пиитов. Нет, не вотще в