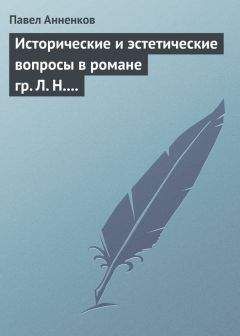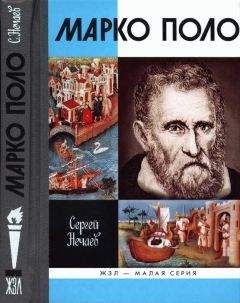Бытовой отдел романа возбуждает вопрос не менее важный, чем тот, о котором говорили сейчас при исследовании политического отдела. Эта часть, заключающая в себе олицетворение нравов, понятий и вообще культуры высшего нашего общества в начале текущего столетия, развивается довольно полно, широко и свободно благодаря нескольким типам, бросающим, несмотря на свой характер силуэтов и эскизов, несколько ярких лучей на все сословие, к которому они принадлежат. Здесь уже не найдет себе места тот укор в прославлении дикости и невежества, который делали автору некоторые критики за лучший, образцовый его роман «Казаки»{13}. Здесь, наоборот, мы находимся в среде утонченнейшей цивилизации, пресыщены изяществом фигур, свойственным даже и не совсем видным фигурам, французским диалектом и неустанным анализом автора, который объясняет нам настоящий смысл почти каждого движения выводимых им лиц, каждого их взгляда, слова и костюма, потому что в этом своеобычном мире люди выражают свое нравственное содержание гораздо более неуловимыми знаками, намеками, безделицами всякого рода, чем простой человеческой речью, поступком или естественной игрой своей физиономии. Надо запастись особенным ключом, чтоб понимать их сношения между собою, надо быть посвященным в таинственное значение гиероглифов, которыми они обмениваются, чтоб угадывать их настоящие мысли и намерения. Автор принадлежит к числу посвященных. Он владеет знанием их языка и употребляет его на то, чтоб открыть под всеми формами светскости бездну легкомыслия, ничтожества, коварства, иногда совершенно грубых, диких и свирепых поползновений. Всего замечательнее одно обстоятельство. Лица этого круга состоят словно под каким-то зароком, присудившим их к тяжелой каре – никогда не достигать ни одного из своих предположений, планов и стремлений. Точно гонимые неизвестной враждебной силой, они пробегают мимо целей, которые сами же и поставили для себя, и если достигают чего-либо, то всегда не того, чего ожидали. Исключения касаются только самых ничтожных, пошлых замыслов и расчетов: все, что посерьезнее, никому из них не уступает себя. Можно подумать, следя за мастерским изображением этой среды у нашего автора, что для людей ее существует особо приставленная к ним Немезида{14}, которая поражает их бессилием на полудороге ко всякому предприятию и постоянно оставляет в их руках пыль и прах вместо искомого и желанного добра. Ничего не удается им, и все валится из их рук. Даже чувство и мысль, самые простые и общечеловеческие в ограниченном значении эпитета, или приносят не те плоды, какие от них обыкновенно получаются, или разрешаются по прошествии некоторого времени в нечто похожее на свою пародию и карикатуру. Молодой Пьер Безухий, способный понимать добро и нравственное достоинство, женится на светской Лаисе{15}, столь же распутной, сколько и глупой по природе. Князь Болконский, со всеми задатками серьезного ума и развития, выбирает в жены добренькую и пустенькую светскую куколку, которая составляет несчастие его жизни, хотя он и не имеет причин на нее жаловаться; сестра его, княжна Мария, спасается от ига деспотических замашек отца и постоянно уединенной деревенской жизни в теплое и светлое религиозное чувство, которое кончается связями с бродягами-святошами и т. д. Так настойчиво возвращается в романе эта плачевная история с лучшими людьми описываемого общества, что под конец, при всякой картине где-либо зачинающейся юной и свежей жизни, при всяком рассказе об отрадном явлении, обещающем серьезный или поучительный исход, читателя берет страх и сомнение: вот-вот и они обманут все надежды, изменят добровольно своему содержанию и поворотят в непроходимые пески пустоты и пошлости, где и пропадут. И читатель почти никогда не ошибается; они действительно туда поворачивают и там пропадают. Но, спрашивается, – какая же беспощадная рука и за какие грехи отяготела над всей этой средой… Что такое случилось? По-видимому, ничего особенного не случилось. Общество невозмутимо живет на том же крепостном праве, как и его предки; екатерининские заемные банки открыты для него так же, как и прежде; двери к приобретению фортуны и к разорению себя на службе точно так же стоят нараспашку, пропуская всех, у кого есть право на проход через них; наконец, никаких новых деятелей, перебивающих дорогу, портящих ему жизнь и путающих его соображения, в романе гр. Л. Н. Толстого вовсе не показано. Отчего же, однако, общество это, еще в конце прошлого столетия верившее в себя безгранично, отличавшееся крепостью своего состава и легко справлявшееся с жизнию, – теперь, по свидетельству автора, никак не может устроить ее по своему желанию, распалось на круги, почти презирающие друг друга, и поражено бессилием, которое лучшим людям его мешает даже и определить как самих себя, так и ясные цели для духовной деятельности. Подумайте, что между 1796 и 1805 годом, когда начинается роман Толстого, протекло только девять лет! Как могла совершиться в такой незначительный промежуток времени такая сильная перемена?
Невольно и само собою представляется мысли читателя предположение, что роман, пожалуй, ошибся в одном из двух: или он просмотрел, оставив без надежного представителя какое-то новое, могущественное начало, появившееся в русской жизни и успевшее, в течение 10–15 лет, незаметно подорвать веру общества в основания, на которых оно жило спокойно дотоле; или картина несостоятельности этого общества в первое десятилетие нашего столетия, и особенно нравственных страданий его, преимущественно выражаемых лицом князя Андрея Болконского, сильно преувеличена и составляет некоторого рода анахронизм. Мы думаем, с своей стороны, что роман отчасти заслужил этот упрек не по одному из этих пунктов, а по обоим вместе.
Нам не приходится учить такого мастера и художника, как гр. Толстой, по профессии романиста; поэтому мы и позволяем себе выразить только скромное сожаление об отсутствии в его книге всякого намека на те начала, прямо исшедшие от правительства описываемой эпохи, которые, между многими другими последствиями своими, имели и то, что предоставили высшее наше общество суетливым хлопотам по отысканию настоящего смысла современных явлений и всего брожения расстроенной силы, некогда видевшей ясно свое призвание, а теперь принужденной гоняться за призванием по всем лабиринтам социальных, мистических и всяческих учений. Начала эти и прежде были знакомы многим на Руси, но они приобрели угрожающий вид только с той минуты, когда к ним склонилось правительство, от которого всегда зависела и всегда будет зависеть у нас участь передовых классов общества. Определить этот новый действующий принцип, конечно, можно; но определение его потребовало бы долгого развития, между тем как он весьма хорошо объясняется разницей воззрений, существовавших у правительства и высшего общества на их общего врага Наполеона I. И то и другое, с малыми перерывами, употребили первые пятнадцать лет столетия на энергическую борьбу с бесцеремонным завоевателем. Не раз борьба эта служила и патриотической связью между ними, так же точно, как она же роднила часто и все слои населения империи в одном чувстве народной чести, национального достоинства. Император французов был символом брани по ту сторону Немана, но он устроивал мир и патриотическое общение интересов внутри России. Со всем тем правительство и высшее общество подразумевали нечто иное, когда единогласно называли Наполеона «возмутителем спокойствия Европы», «нарушителем общих прав» и т. д. Под покровом одинаково выражавшегося негодования, а в главные моменты борьбы – и одинаковой ненависти, таилось у правительства и высшего общества вплоть до 1812 года различное понимание своих слов. Правительство, как и следует всякой законной и сильной власти, оскорблялось преимущественно у Наполеона его системой попирания всех оснований прежней политической истории, его презрением к самым старым монархиям в Европе, его игрой престолами и трактатами, всеми признанными; но оно не имело ничего против нового строя государственной и общественной жизни, которого он был представителем. Правительство Александра I относилось не только не враждебно, но дружелюбно к принципам, унаследованным Наполеоном от французской революции и им водворяемым посредством новых династий в Европе. Оно нисколько не думало бороться с такими основаниями, каковы: равенство всех граждан перед судом, свобода личности, отрицание сословных привилегий, право каждого на всякую ступень в государстве, под условием труда и способности и пр. Совсем наоборот, оно думало усвоить их себе и положить в программу собственной своей деятельности, со включением, как кажется, и принципа совещательных собраний, который никогда не отвергался французским императором, а только заслонялся им своей, увенчанной славой, особой. В таких границах вращалась вражда к Наполеону в правительственных сферах той эпохи. Она, во всяком случае, оставляла еще место другим соображениям, даже сочувствию, как видим из попыток сближения с ним…