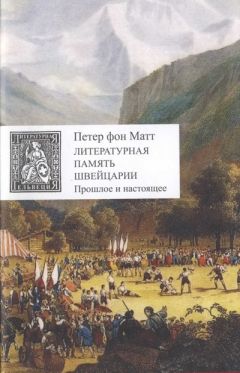Я не думаю, что Макс Фриш осознавал свою близость к основополагающим позициям либерализма. Понятия либеральный и либерализм приобрели в Швейцарии слишком отчетливый партийно-политический смысл, чтобы он мог беззаботно ими пользоваться. Кроме того, в публичном дискурсе противоположность между либеральным и консервативным мышлением, еще в XIX веке имевшая конститутивное значение, была заменена оппозицией левые и правые. Правыми считались теперь в равной мере и либералы, и консерваторы. Из-за этой плакатной терминологии люди перестали осознавать революционное содержание либерализма. Однако именно оно продолжало жить в сердцевине мышления Фриша и в значительной мере определяло его экзистенциальный опыт. Это привело к парадоксу: либеральное бюргерство причисляло Фриша к левым, критиковало его как левого и в конечном счете установило за ним полицейский надзор, хотя он был выразителем только той идеи, которую изначально выдвинуло само это бюргерство. Конечно, его не особенно волновала проблема народной школы, да и свобода торговой или предпринимательской деятельности не относилась к числу насущных для него тем. Но мысль, что за свою жизнь несет ответственность исключительно он сам и что его долг — прожить жизнь во всей полноте предоставляемых ею возможностей: такая мысль была для Фриша осью существования. Извлечь максимум из отведенного нам срока жизни: максимум написанных произведений, жизненного опыта, исполнения задуманного, да даже и просто счастья (причем по своей воле, а не следуя заповедям какого-то бога или предписаниям общества), — этот долг стал для него наивысшим законом. Законом, который он сам себе дал, побуждаемый к тому разумом и свободой. Три неотчуждаемых права человека, сформулированные в самом начале американской «Декларации независимости» — «жизнь, свобода и стремление к счастью», — определяли все существование Фриша.
Дело тут не в эгоизме. И не в гедонизме. Фриш порой называл себя эгоманом, но никогда — эгоистом. Он хотел, чтобы закону, которому он следует, следовали и другие люди. Чтобы этому закону следовали также и общество, и его, Фриша, родной город, и вся Швейцария. Прорваться к себе самому и обрести свободу (проявив мужество; сознавая, что будущее таит в себе огромное многообразие шансов и возможностей): этого он требовал и от Цюриха, и от всей страны. Прогресс — в изначально-либеральном смысле — ничего другого и не предполагает. Поэтому, например, Фриш призывал свою страну к строительству нового, подлинно современного города[252]. Такое строительство должно было стать для граждан Швейцарии подтверждением наличия воли к совместному формированию будущего.
Если бы за страстью Фриша к новым начинаниям и к самореализации скрывались лишь эгоизм и гедонизм, какое дело ему было бы до других? До своих сограждан? До родины? — Никакого. — Но в действительности он очень даже о них заботился, заботился постоянно, вплоть до последних дней на смертном одре. Он сам страдал от неподвижности и хотел помочь другим людям преодолеть ее. Он ненавидел инстанции, способствующие обездвиживанию, и они ненавидели его. Ядро эстетики Фриша и его понимания литературы — а именно, стремление ставить вопросы так, чтобы читатели «не могли больше жить без ответа: без их ответа, их собственного»[253], — было нацелено на динамизацию общества. Если же общество сопротивлялось заманивающим и настоятельным призывам к динамизации, фришевское понятие динамизации сближалось с понятием динамита. Фантазии Макса Фриша, связанные с динамитом и насилием, всегда обусловлены контекстом такого рода: поскольку Бидерман[254] не желает ничего предпринимать, он взлетает на воздух.
В таком же духе следует понимать и пьесу о жизни и страданиях графа Эдерланда (длительный, так и не завершенный проект Фриша)[255]. Эдерланд — уважаемый юрист, прокурор — в один прекрасный день берется за топор и, совершив акт насилия, завоевывает себе экзистенциальную свободу. «Приватный» топор Эдерланда соответствует динамиту, который «публично» используют поджигатели[256]. Суть этого драматического проекта нельзя ухватить, если сразу ставить нравственный вопрос — об оправданности убийства. Как только мы сделаем это, процесс логического постижения пьесы уклонится на ложный путь[257]. Ведь за фигурой Эдерланда (как и за Бидерманом) скрывается, можно сказать, физический эксперимент. Как долго будет выдерживать закрытый, прочный сосуд нарастающее давление извне? «Сосуд» может быть и личностью, и городом, и страной, и континентом, и миром. Напрашивается мысль, что речь здесь идет не столько о нравственной проблеме, сколько о физике. А значит, разбирая сновидческую историю графа Эдерланда, мы не должны сосредотачиваться на нравственной оценке убийства и вообще насилия. Ведь паровому котлу, когда он взрывается, никто не говорит: ты не вправе это делать.
Значит, и в данном случае вопрос не стоит так, имеет ли Эдерланд право браться за топор. Вопрос заключается в другом: откуда берется внутреннее давление?
Итак: откуда берется внутреннее давление у Фриша? Стоит мне связать этого автора с традицией Просвещения и бюргерского либерализма, как ответ становится для меня очевидным. Внутреннее давление у Фриша (сперва требующее от него прорыва к собственной личности, а потом — такого же прорыва, но осуществленного и другими людьми, в масштабе всего общества) восходит по прямой линии к внутреннему давлению у либеральных бюргеров XVIII и XIX веков, которые уже не верили, что судьба мира зависит от божественного Провидения или находится в руках князей и королей, но полагали, что ее держат в своих руках люди: все люди, человечество. Такое внутреннее давление обладает метафизическим измерением — именно потому, что вобрало в себя, в секуляризированной форме, представление о божественном Провидении. Провидение теперь понимается как разум человечества. Речь здесь действительно идет о чем-то сакральном — в мирском смысле. Прорыв наружу из сковывающей скорлупы понимается как Спасение. Мир должен быть спасен самим человеком, я должен быть спасен мною же: такова вера сторонников Просвещения, а значит, и первоначального либерализма. Эти энергии продолжали работать, в самых разнообразных формах, на протяжении XIX и XX веков; они были усвоены и молодым Максом Фришем, оказали влияние на его существование и его книги. А что этот присущий Фришу радикальный либерализм никто из исследователей не пытался обозначить точным понятием, можно отнести к числу других странностей, вообще характерных для рецепции Макса Фриша в Швейцарии[258].
Консерватизм Дюрренматта
А теперь давайте перейдем к противоположному понятию, к писателю противоположной направленности. Консерватизм, консервативный — это такие же трудные, такие же мерцающие термины, как либерализм и либеральный. Они сопряжены с таким количеством суждений и предвзятых мнений, что теперь почти невозможно употреблять их в какой-либо конкретной взаимосвязи. Нам будет легче ухватить суть этих понятий, сопоставив их с уже обрисованной концепцией либерализма. Либерализм исходит из идеи спасения мира свободными индивидами, из веры в грандиозный процесс прогрессивного развития, в поэтапное освобождение от всех форм угнетения. Консерватор в принципе отрицает наличие такого процесса как секуляризированного варианта спасения мира. Консерватор говорит: основополагающая структура мира, общества, индивида не меняется. Поэтому не следует верить в процесс постоянного улучшения. Всё существенное остается таким, каким было всегда. Мысль, что мир будто бы поддается совершенствованию, — это лишь порождение умствований, распространенных в эпоху Просвещения. При каком-нибудь короле жизнь может быть столь же сносной или несносной, что и при республиканском правлении. Системы правления меняются, как погода: отпущенный им срок истекает, но потом они опять возвращаются. Человек же всегда остается убийцей, которого трудно удерживать в рамках законности, и время от времени он предается своему наивысшему удовольствию: убивать. А уступает ли он свое право убивать — licence to kill[259] — князю или либеральному государству, особого значения не имеет. Что человек в один прекрасный день откажется от потребности убивать, добровольно и по соображениям разума, — это лишь беспочвенное сентиментальное мечтание.
Существует консерватизм, который держится за определенные политические формы из прошлого или хочет их реставрировать. Хочет, например, вернуть королевскую власть. Как сегодня этого хочет, скажем, Мартин Мозебах[260], а раньше (в поздний период своего творчества) хотел Йозеф Рот. Консерватизм другого толка стремится заменить короля фюрером. Как этого хотели в межвоенный период отдельные группы правой интеллигенции, поборники так называемой «консервативной революции»[261]. С программным консерватизмом в духе этих правых агитационных движений двадцатых и тридцатых годов Дюрренматт определенно ничего общего не имел, хотя юношей он какое-то время симпатизировал вдохновленному фашистскими идеями швейцарскому «фронтовому движению»[262]. Определяющим же для консервативных взглядов Дюрренматта является отвержение всех концепций спасения, будто бы имманентного мировой истории, и соответствующих институций. Дюрренматт не верит в возможность совершенствования человека и мира. Поэтому либерализм представляется ему столь же иллюзорным, что и коммунизм (более радикальная, переосмысленная форма либерализма). Представители двух этих концепций рассматривают историю как целенаправленный процесс, возводят свои конструкции на фундаменте гегелевской философии и оперируют представлением, что человечество само обеспечит себе спасение. Представители обеих концепций хотели бы построить мир заново, будь то в рамках буржуазно-либерального государства или коммунизма. Поэтому Дюрренматт дистанцируется от тех и других. Он оспаривает их притязания на функцию спасителя и старается, где только может, показать крах этих идеологий. Консерватизм Дюрренматта не фашистского толка: то есть этот консерватизм не признает принцип фюрерства, противопоставляемый инертной народной массе, а скорее является анархистским, поскольку направлен против любых институций, которые хотели бы установить спасительный порядок. Это в значительной мере относится и к религии. Главные религиозные конфессии, по Дюрренматту, так же смехотворны, как либеральное государство и реальный социализм с их обещаниями спасения. Демонстративная симпатия Дюрренматта к религиозным сектам и к Армии спасения — следствие отвержения им утвердившихся церквей как инсталляции спасения. Примечательно, что именно своему интересу к сектам, к истории анабаптистов в Мюнстере он обязан тем, что стал драматургом[263]. Прогресс — для консерваторов, для Дюрренматта — вовсе не путь к лучшему миру, а самообман и замаскированная жестокость. Впечатляющий гимн прогрессу в конце «Визита старой дамы», который исполняется с пафосом, характерным для античного хора, превращается в событие, исполненное чудовищной иронии. Это песнопение маскирует убийство, благодаря которому только и стал возможен прогресс как экономическое чудо, но которое, вместе с тем, свидетельствует о нравственном коллапсе. Мир не меняется. Это ядро консервативных убеждений Дюрренматта. И здесь он сходится с Нестроем[264], одним из драматургов, послуживших для него образцом, который пел, стоя возле рампы: «Все это пахнет седой стариной, разве что приняло облик иной!»[265] Фразу «В истории нет ничего нового, ну совсем ничего!» мне довелось слышать от самого Дюрренматта. Он полагал: все системы, которые обещают улучшить мир и выводят из этого право подчинять людей своим нормам, должны быть разоблачены, а в случае необходимости и взорваны.