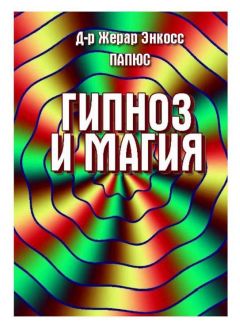Завоевавши себе подобную аристократическую независимость, всецело отдавшись «великому созерцанию» и искусству, Леонардо и в области созерцания остается сверхчеловеком. Он не простой «поденщик» науки и не раб науки. В своих исследованиях и опытах он не идет «ремесленным» путем, путем кропотливого, строго логического, чисто рассудочного анализа. Его работами руководит и его чувство, и его инстинкт в той же степени, как и его разум. Математическая точность у него сочетается со стихийным вдохновением. Наука у него переходит в искусство. Искусство – в науку. Он бросается от одной работы к другой, от одного предмета к другому, руководясь императивом непосредственного чувства, императивом инстинкта: работая над картиной, он внезапно увлекается изображением машины для приготовления колбас, от механики переходит к химическим опытам, от химии к астрономии, от астрономии к орнитологии или энтомологии, и так без конца. Словом, он работает так, как вообще привыкли действовать и чувствовать все сильные люди Возрождения. Подобно тому, как самые противоположные настроения и идеи не вносят дисгармонии в душевный мир сильных людей эпохи Возрождения, а напротив, имеет для последней обаяние жизненной прелести, точно также самые противоположные работы доставляют только наслаждение мыслителю-сверхчеловеку. В науке и искусстве он находит полноту жизни, полноту жизненных ощущений.
В заключение остается упомянуть еще об одной черточке, дополняющий характеристику сверхчеловека-мыслителя, – об его отношении к любви.
В жизни Леонардо был только один роман. Леонардо рисовал портрет с жены одного флорентийского гражданина моны Лизы Джиоконды и почувствовал к ней глубокое влечение. Но эта не была обыкновенная любовь: он полюбил мону Лизу не чувственной и не платонической любовью, не как женщину и не как призрак. Он сочетал в своей любви поклонение призраку и поклонение живой красоте. В моне Лизе он любил выражение «призрачной прелести – чуждой, дальней, не существующей и более действительной, чем все, что есть». Но бывали и другие минуты, когда он чувствовал ее живую красоту.
Кроме того, мона Лиза являлась для него «отражением его собственной души в зеркале женственной прелести». Он полюбил в ней самого себя. Рисуя ее портрет, он придавал этому портрету черты собственного тела и лица. И раньше, во все свои художественные произведения он старался вложить черты своего «я»: «как будто всю жизнь, во всех своих сознаниях искал он отражения собственной прелести», и полное отражение «собственной прелести» он нашел лишь в лице Джиоконды. И когда на лице Джиоконды он увидел чуждые ему черты, когда в душе Джиоконды шевельнулись чуждые ему движения, его роман приблизился к развязке.
Так во всем и всегда сверхчеловек оставался верен самому себе, своей цельной, самодовлеющей, враждебной мельчайшим внеш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В ряде блестящих очерков «Волей-неволей» Глеб Успенский [15] некогда старался выяснить «психические основы» народнического движения. Психический облик народника, по мнению Глеба Успенского, определялся прежде всего явлениями социального порядка. Источники народнических настроений нужно искать в устоях крепостного права. Истинные народники, подобные Тяпушкину, герою вышеназванных очерков, вышел из слоев народа, испытавших на себе всю тяжесть крепостных уз. Не видя вокруг себя ничего, кроме бессильных страданий и бессильного озлобления, незнакомые с «человеческим участием, человеческим вниманием к ним», с детства забитые и угнетенные, Тяпушкины, естественно, не могли всесторонне развиваться; условия их обстановки не воспитывали в них должного сознания человеческого достоинства, не позволяли им «культивировать их собственное «я». Они, напротив, боялись заглянуть вглубь собственного «я», они боялись собственной личности: она была для них синонимом страдания. Более того, они боялись вообще каждого живого человека, так как в каждом живом человеке, в каждой человеческой личности они находили все те же страдания. Их сердце становилось до известной степени атрофированным. «Личное участие, личная жалость была им не знакома, чужда. В их сердце не было запаса человеческих чувств, человеческого сострадания, которое они могли бы отдавать отдельным личностям». И они старались уйти от собственною «я», от всякой человеческой личности, от «подлинного человеческого стона». Они старались успокоиться на представлении об отвлеченных страданиях, о всечеловеческом горе, на любви к человеческим массам. Они бежали «к каким-то живым массам несправедливостей, неурядиц, требований, одушевленных в виде человеческих масс, а не человеческих личностей.
Уйти в «толпу», дабы уйти от самого себя, – такого принципа держались представители передового общественного движения в 70-х годах, по словам наиболее искреннего, наиболее вдумчивого идеолога этого движения. Исстрадавшийся разночинец-интеллигент, по воле исторических обстоятельств, шел на альтруистический подвиг, на самопожертвование, на служение народу.
Это самоотречение, этот альтруизм – великое наследство, оставленное народничеством, – приобрели значение священного догмата в глазах последующих поколений передовой интеллигенции. Интеллигенция различнейших оттенков и направлений неукоснительно исповедовала этот догмат на протяжении целых десятилетий вплоть до наших дней. Лишь в самое последнее время сделана дерзновенная попытка подорвать веру в этот догмат.
Попытка исходит далеко не из лагеря заведомо отъявленных обскурантов и поборников реакции. Во главе движения, проповедующего вместо альтруизма – ненависть к народу, вместо самоотречения – служение самому себе, вместо стремления уйти от собственной личности – крайний культ собственной личности, стоят писатели, некогда зарекомендовавшие себя несомненными прогрессистами; ницшеанство, теория, наиболее ярко отразившая эти антисоциальные и антиальтруистические тенденции, никем не признается, несмотря на то, что многие из его заповедей говорят в пользу реакции, теории консерватизма.
Как же могло произойти подобное странное явление, подобный поразительный раскол в рядах прогрессивной интеллигенции?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего обратиться ко временам той интеллигенции, которая сменила народническую интеллигенцию на исторической авансцене, той интеллигенции, наиболее характерными выразителями которой явились Надсон, Гаршин, Минский [16] . Эта интеллигенция вовсе не состоит в прямом родстве с интеллигенцией, представленной именами Левитова [17] , Успенского, Наумова [18] . Интеллигенты начала 80-х годов вышли совершенно из иной среды, развивались при совершенно иных условиях, чем интеллигенты-народники. Последние вышли из провинциальной глуши, из рядов провинциального духовенства, мелкого провинциального чиновничества, изредка мелкопоместного дворянства. Интеллигенты начала восьмидесятых годов – дети столичной культуры. Их детские и юношеские годы ничем не напоминают соответствующих годов из биографии Тяпушкина; эти интеллигенты росли в более обеспеченной и более спокойной обстановке. Над ними не тяготел кошмар крепостного права, они с детства не томились в тисках безысходного социального рабства, не задыхались с детства в атмосфере бессильных стремлений, озлобления, самобичевания, они не чувствуют себя совершенно бесправными членами общества. Они с детства знакомились с вершинами человеческой цивилизации, с плодами утонченной столичной культуры, с богатством научных знаний и богатством эстетических ощущений. Из них вырабатывались артистические натуры. Эстетика, отвергнутая еще со средины шестидесятых годов, вновь приобретает право гражданства в глазах передовой интеллигенции. Но эстетическое развитие – только одна сторона их всестороннего развития. С детства не забытые и не угнетенные, они могут «культивировать» в себе «человеческое достоинство», культивировать собственное «я», они получают должное понятие о человеческих правах, о правах личности. Их сердце далеко от состояния атрофии.
Люди, окружающие их, не похожи на тех «мучающихся, беснующихся, страдающих, обремененных», которых видели вокруг себя интеллигенты-народники. Они не сталкиваются непосредственно с народной, крестьянской массой, они не знают ни народа, ни деревни. Надсон лишь под конец своей жизни, очутившись в деревне одной из южных губерний, делает для себя важное открытие. «Интересного для себя, скромного наблюдателя человеческой жизни, я нашел здесь множество, в первый раз в жизни убедившись, что света в окошке можно искать в России и вне Петербурга. Школьный учитель, урядник, становой пристав, деревенский поп, мировой посредник – все эти лица, бывшие для меня прежде фантомами, теперь воплотились и одухотворились. Жаль, что болезнь мне мешает поближе познакомиться с крестьянской жизнью, о которой я, разумеется, не имею никакого понятия» [19] .