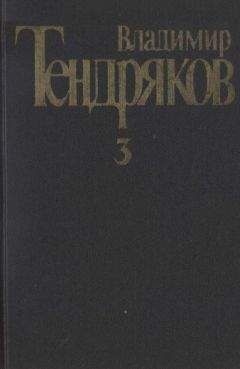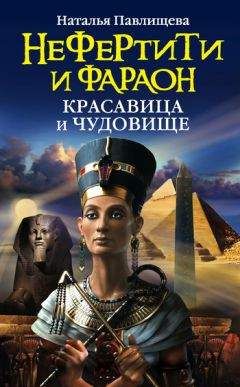Гоша Сокольский, чтоб считать голоса, вышел из-за стола на авансцену — костюм, словно из журнала мод, ботинки на толстой подошве, ворот свитера подпирает подбородок, — начавший уже полнеть мальчик из хорошей семьи, у него узкие плечи и широкие бедра.
— Кто — за, прошу поднять…
Затылки, затылки впереди Федора, над ними вырастают руки.
Когда-то Игорь Гольцев поднял руку против родного отца — крупно ошибался Ежов. Поднял тогда и Федор. Сейчас он не шевелился… Затылки, затылки, руки, руки… До чего он чувствовал себя одиноким.
— Кто воздержался?
Тишина в зале.
— Кто против?
Тишина.
Но Гоша Сокольский неожиданно объявляет:
— Один голос против!
Федор вытянул шею: затылки, затылки — руки не видно. И вдруг, словно кто толкнул, обернулся — рядом, сплющив губы в жесткую складку, тянул вверх руку Вячеслав.
Федор дернулся…
Но Гоша Сокольский уже отчеканивал:
— Подавляющим большинством голосов общее собрание студенческого и преподавательского состава…
Игорь Гольцев, где твоя наука?
12
Теснясь выходили из конференц-зала. На всех лицах одно и то же оскорбляющее Федора нетерпение — скорей в раздевалку, скорей на улицу, к троллейбусу, домой, наконец-то все кончилось.
Вячеслав судорожно вертел головой направо и налево, искал Православного.
— Оденемся. Выйдем. У входа подождем, — слабо попросил он.
На улице падал мокрый снежок. Вячеслав, натянув на лоб шляпу, подняв воротник, постукивал зубами, отбивал по мокрому асфальту ботинками. Федор уловил: „Жил Чарли безработный…“ А Православный все не выходил. Пачками выскакивали студенты, громко говорили, слышался девичий смех. Исчезали в темноте.
Наконец показались трое — в середине патлатая шапка, собачий мех. С одного боку Слободко, с другого — Нина Худякова выступает вальяжно. Федор знал: Нина любит или героев, или несчастненьких, неудивительно — сейчас опекает Православного.
Слободко первый заметил Вячеслава, подался вперед, плечом загородил Православного.
— Ждешь? — бросил он. — Погляди, Православный, он ждет. Хочет услышать похвалу — герой, не жалея сил защищал, один из всех руку поднял. Один из всех приметен.
Потеснив Вячеслава, Слободко потащил Православного. Собачья шапка удалялась. Рядом смутно колыхались плечи Нины Худяковой.
Вячеслав стоял, облепленный снегом, покорно смотрел вслед.
Хлопнула дверь, выплыло монументальное пальто, увенчанное пыжиковой шапкой, — Гоша Сокольский, с честью справившийся со своими председательскими обязанностями. Остановился, подтягивая кожаные перчатки, сурово сказал Вячеславу:
— Ты вел себя сегодня глупо и оскорбительно… Узколобое донкихотство!
Вячеслав глубже втянул голову в воротник, ничего не ответил, двинулся шляпой вперед навстречу вяло кружащимся крупным хлопьям.
Ни Слободко, ни Гоша Сокольский не упрекнули Федора. Никто не заметил, что он не поднял руки — ни „за“, ни „против“, ни „воздержался“. Ничем не выделился, в глазах других вел себя как все, а все не могут выглядеть глупо. Ни „за“, ни „против“, ни „воздержался“ — отсутствовал.
Вячеслав, порывисто подавшись вперед всем телом, шел дергающейся походкой, Федор едва поспевал за ним. Снег ложился на мокрый смолисто-черный асфальт и таял.
Неожиданно Вячеслав обернулся:
— Горилла перехитрила!.. Она далеко не глупа!..
Федор ничего не ответил.
Они идут в общежитие. Ночью будет раздаваться привычный храп Ивана Мыша.
А завтра комендантша общежития, дама с кремневым характером, пачкающая накрашенными губами мундштуки папирос, попросит Православного:
— Милый мой, вы теперь не студент.
И в обшарпанный чемодан будет втиснуто заношенное белье, и Федор поможет увязать пыльные этюды.
— Не так глупа эта горилла!..
Комната общежития — родной дом. Старая куртка Православного висит на стуле, и торчит из-под его койки штанина кальсон с завязками. Комната общежития — все по-прежнему.
Едва успели скинуть пальто, опуститься на койки, как за дверью в коридоре послышались размеренные, тяжелые шаги.
Федор и Вячеслав переглянулись — к ним шагал Иван Мыш.
13
Неужели он войдет, как всегда: „Почаевать, хлопцы, недурно бы…“ Или станет прятать блудливо глаза?
Грузные шаги на секунду смолкли под дверью, на одну секунду.
Слышно — рука нащупала ручку…
Федор всего ждал, но только не того, что увидел.
Дверь осторожно открылась…
Граненое лицо Ивана Мыша было пепельным, каким-то квадратно-угловатым. В немигающих глазах стыла тоска.
И с ходу:
— Хлопцы…
Голос осевший, сиплый.
— Хлопцы…
Большой человек с могучим разворотом плеч под кожаным регланом, у него дрожат подобранные тонкие губы и глаза пугающе неподвижны, тусклы. Такие глаза Федор видел в госпиталях, у тяжелораненых, для которых страдание стало привычкой.
— Хлопцы… Я не хотел этого… Выслушайте.
Федор и Вячеслав очнулись от оцепенения.
— Это интересно, — горловым голосом произнес Вячеслав.
— Говори, — приказал Федор.
Но вместо того чтобы рассказать, Иван Мыш стал торопливо, казалось даже радостно, стаскивать с себя пальто. Шуршала кожа, слышалось сопение, и Федора взорвало:
— Ты, может, спать ляжешь, гад?
Иван Мыш вздрогнул. Большой, плечистый, дернул локтем по лицу, как ребенок, над которым взмахнули кулаком.
— Я не хотел этого, хлопцы…
— Слышали! Дальше!
— Я Слободко не люблю! Я Православного люблю… Честное слово.
— Заткнись в лирике! К делу!
— Так я ж к делу… — Лицо Ивана Мыша порозовело, лоб залоснился испариной, глаза ожили, покрылись влагой, они по-собачьи преданно останавливались то на Федоре, то на Вячеславе. — Я к тому — вы ж просили защитить Слободко. Просили же…
— Держись, Федор! Горилла опять смеется над нами!
— Выслушайте, выслушайте! Какой тут смех… Беда случилась. Кто мне теперь поверит? Кто?
— Ты, гнида, плакаться будешь или рассказывать?!
— Не хотел я… Что мне Православный дурного сделал? Что? Я Слободко не люблю… А этот меня толкнул…
— Кто толкнул? Слободко?
— Да нет же, директор.
— Директор? На Православного? Сам?
— Я же к нему пошел выручать Слободко… Будь он трижды проклят, этот Слободко! Все из-за него…
— Ну?!
— Стал говорить: Слободко не виновен… А на Слободко-то уже приказ был… Не ждал я, что так… Если б знал, от порога шарахнулся… Все обо мне думают — детина великая, кулаки что гири. А какой толк мне в больших кулаках? Я же боюсь кулаком на курицу замахнуться… И все-то меня бездарью считают. Все — и вы и директор. Самое страшное, что никак не пойму — почему я бездарь? Погляжу на свой холст — мне нравится, кажется, что лучше-то и не сделаешь. А кто ни поглядит — нос воротит, словно сговорились… Самое страшное — не могу понять почему?..
— Зубы не заговаривай!
— Кто я для директора — козявка! Раздавит и не поморщится. А тут он осатанел… Право слово, осатанел, когда услышал, что я Слободко защищаю. Приказ же написан… Пошел меня чесать: „Дружка спасаешь! Приятельские отношения!..“ Это Слободко-то мне приятель? За кого терпеть должен?.. Вот как обернулось…
— Обернулось, что ты Православного в пасть сунул?
— Сволочь я! Душа у меня заячья! — Собачий преданный взгляд. Заглядывает не в глаза, а в рот.
Федор почувствовал уже знакомую ему брезгливую неловкость, процедил:
— Я не в первый раз слышу это. Хватит!
— Кляните, хлопцы, бейте, ругайте — сам морду подставлю… Не хотел я Православного! Не хотел! Случайно вырвалось.
— Что вырвалось?
— Директор-то упомянул: Слободко с Милгой связан, с этим элементом…
— Ну?
— Сволочь я! Дурак последний! Дернуло меня за язык… Хлопцы, дайте мне в морду! Сорвалось, честное слово, сорвалось… Ляпнул я не подумавши, что это Шлихман первым Милгу нащупал и нас со Слободко привел к нему…
— Та-ак. — Вячеслав с Федором переглянулись.
В глубине серых глаз Вячеслава — что-то тоскливое, скулящее, осунувшееся лицо заморожено, он, должно быть, испытывал такую же тоскливую неловкость, как и Федор. Он, Вячеслав, боится Ивана Мыша. Еще немного, и придется простить, Мыш выйдет победителем.
А Мыш униженно, просяще ласкает влажным взглядом:
— Хлопцы… Я ж не думал, что он вцепится в мои слова. А слово-то не воробей — вылетело… Я было туды-сюды, а он жмет, юшка из меня течет… Не хотел же, не хотел! Против воли случилось. Сам себе не хозяин… А уж сказал — верую, скажи и — господи.
Влажно-обволакивающе глядит Иван Мыш, обычно граненое лицо его размякло, порозовело, на лбу, на крыльях носа — испарина. И Федор чувствует тошноту от влажного взгляда. Собака легла на спину, подняла лапы, рука не подымается ударить. Да и как ударить? Ни Федор, ни Вячеслав — не власть для Мыша. Могут лишь плюнуть в физиономию, а на физиономии готовность — утрусь, не извольте беспокоиться. И чувствуется, что Иван Мыш угадывает их беспомощность, и где-то в уголках его ласковых глаз чудится насмешка.