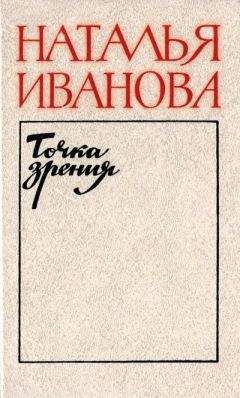В словаре Даля нет слова «адаптация». Видимо, и понятие, и явление, которое оно закономерно отражает, — достижение уже нашего времени. В «Словаре иноязычных выражений и слов» (Л., «Наука», 1981) слово «adaptation» переводится преимущественно как приспособление. Известно, однако, что дети ужасно не любят, когда к ним приспосабливаются, начинают сюсюкать, лебезить перед ними. Когда намеренно снижают уровень общения. Надо сказать, что и юноши с недоверием относятся к немолодым людям, пытающимся адаптироваться к молодежной аудитории. Юношество ценит в зрелости те качества, которые оно и пытается прежде всего воспитать в себе — основательность суждений и самостоятельность. Хотелось бы пожелать этого и литературе, предназначенной молодежи. «Все, что должно быть передано от отцов к сыновьям в научение, а не то, что болтает ежедневно глупый <…> человек, то должно быть предметом словесности, — писал Гоголь в своих заметках к „Учебной книге словесности для русского юношества“. — Поэтому только тот, кто больше, глубже знает какой-либо предмет, кто имеет сказать что-либо новое, тот только может быть литератором. Поэтому злоупотребление, если кто пишет без надобности и потребности внутренней…»
* * *
Но существуют, наряду с этим, и другие, более сложные разновидности литературной адаптации.
Адаптация — это упрощение, уплощение, низведение до среднедоступного уровня: замысла, сюжета, героя. Напомню строфы знаменитого стихотворения Б. Пастернака «На ранних поездах»:
В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.
Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.
Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.
В стихотворении «Это я» Б. Ахмадулина явно развивает пастернаковский образ слияния с народом. Повторяются и мотивы: метафора вагона преображается в метафору вокзала, «длинного ряда», в котором стоит и поэт; «обожанье» переходит в отождествление своей судьбы с судьбой народа:
Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою —
позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моем и на их языке…
А вот как адаптируется поэтическое открытие — и вагонно-вокзальная теснота Б. Пастернака, и «старуха в пуховом платке» Б. Ахмадулиной, а также позиция равенства и родства поэта с народом сегодня:
В толчее
На Казанском вокзале,
Что трещит от столичных щедрот,
Я особыми вижу глазами,
По-особому слышу народ.
Неразрывные чувствуя узы,
Я сливаюсь в дыханье одном
С мужиком в пиджачонке кургузом,
С полной дамой в кримплене цветном…
Невооруженным глазом видно эпигонство и стандартизация слова, этому эпигонству обязательно сопутствующая, — чего стоят одни только «неразрывные узы»… Этот же мотив повторяется эхом и в других стихах Н. Кондаковой: «Скорей лишишься пишущей (попробуйте, кстати, произнести! — Н. И.) руки, чем их предашь — соседку в телогрейке, и мальчика казахского в слезах, и старого узбека в тюбетейке, и мужика в кирзовых сапогах». То, что для Пастернака или Ахмадулиной является изначально конфликтной ситуацией; то, что поэтическая мысль рождена преодолением ложного противостояния личности интеллигента — народу, то для эпигона — надуманная поза: ведь она сама то и дело напоминает читателю — а вдруг забудет! — о своем крестьянском происхождении, о «крестьянской родине», о корнях и т. п. Зачем же теперь «сливаться» в «дыханье одном» с мужиком, если ты от него и не отделялась? Вспоминаешь пародийное: вышли мы все из народа, как нам обратно войти…
«Почему так мало хороших стихов пишется в наше время? — спрашивал себя П. Вяземский, и он же отвечал: —…Потому, что многие поют фальшиво, не своим голосом, а подделываясь под чужие голоса… В большей части наших поэтов современных мы не видим лиц, а видим маску, которую они отлили себе, соображаясь с духом времени и портя господствующее лицо».
Вторичны ли вообще искусство, литература по отношению к действительности? Или это особая, драгоценная форма проявления самой жизни? Я отвечаю утвердительно на второй вопрос. В искусстве не должно быть рабства, даже перед действительностью; нельзя художнику заранее отводить себе роль добровольного копировальщика. Чрезвычайно важно чувство собственного достоинства, ведущее художника Вергилием сквозь любые испытания и искушения.
Кто мы? Служители созвучья,
Бродячей рифмы пастухи?
Для нас и жизнь лишь только случай
Покрепче выстроить стихи…
Не высокомерие породило эти строки Варлама Шаламова, а не сломленное годами лагерей достоинство поэта:
Как Архимед, ловящий на песке
Стремительную тень воображенья,
На смятом, на изорванном листке
Последнее черчу стихотворенье.
Я знаю сам, что это не игра,
Что это смерть… Но я и жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развернутой тетради.
Как ни говори, что все первичное уже вторично, что в литературе «все уже было», литературная проблема этим не снята. Хотя о терминах можно спорить бесконечно, в том числе — и о понятии вторичности…
Что такое паразит? Это существо, которое не может существовать самостоятельно, питается чужой кровью. Литература сейчас находится в агрессии эпигонства. Почему — «агрессии»? Потому что, если бы вторичная литература вела себя, зная свое место, тогда не о чем было бы говорить. Но она своего места не знает и пытается подавить по-настоящему оригинальное творчество, занять площадку, распространиться. И так как сейчас критические ценности смещены, да и литературные ценности, мягко говоря, сдвинуты, то эта вторичность ловко делает вид, что она и есть — истинная литература. А дальше — все как в сказке: «Ой, бабушка, почему у тебя такие большие уши?» — «Чтобы лучше тебя слышать!»; «Ой, бабушка, какие у тебя большие глаза!» — «Чтобы лучше было тебя видеть!»; «Но какой у тебя, бабушка, однако, ужасно большой рот!» — «Чтобы легче было тебя съесть!» И — горячий привет наивной Красной Шапочке… Так «съедаются» тиражи, издательские выпуски, журнальные страницы, а главное — умы и сердца читателей.
Окружающий нас мир вещей вторичен. Уникальность утвари давно вытеснена конвейерным производством. Средства массовой информации упрощают ситуацию. Многомиллионные тиражи: предметов, интерьеров, экстерьеров. Грима, масок, моды. А что пошло, говорил Гоголь, то уже и пошло. Только искусство — наравне с природой — противостоит стандартизации, оно кустарно, рукодельно; каждый раз изобретается новая уникальная «формула» для его рождения. Эксплуатация найденного, автоматизация приема ему противопоказаны. Однако многомиллионное тиражирование, массовость «культуры», установка на потребительское отношение к культуре — под лозунгом «сделайте нам!» способствуют чрезвычайно быстрому распространению эпигонской литературы.
Одно утешение: началось это не сегодня. Пушкин говорил о современном ему стихотворчестве: «Под известный каданс их (стихи. — Н. И.) можно наделать тысячи… я ударил об наковальню русского языка — и все начали писать хорошо».
Вспомним период постромантизма, хотя бы — Евдокию Ростопчину. У нее в салоне бывали Пушкин, Жуковский, Плетнев, Тургенев, Соллогуб, «показывался там временами и бирюк — Гоголь». Ростопчиной досталось доживать эпоху. После гибели Пушкина Жуковский послал ей на память новую книгу для записей, принадлежавшую поэту; Лермонтов же перед отъездом на Кавказ подарил ей пустой альбом, открытый лишь его стихотворением, посвященным ей, — знаменитым «Я помню, под одной звездою…». Но чем же Додо Ростопчина эти альбомы заполнила?.. Приведу хотя бы карикатурно-романтический «образ поэта — Пушкина»:
…Величавый
В своей особе небольшой,
Но смелый, ловкий и живой,
Прошел он быстро предо мной…
Когда умер Николай I, бывшая единомышленница декабристов, «продолжательница» Пушкина и Лермонтова почтила деспота и убийцу следующими строками:
Народ!.. Россия!.. На колени!..
Отец, — он горячо скорбел
О каждой капле русской крови,
И полный к нам своей любви,
Для нас себя он не жалел.
Таков закономерный «идейный путь» эпигонства, вторичности…