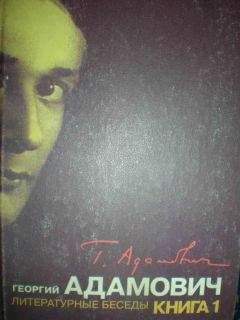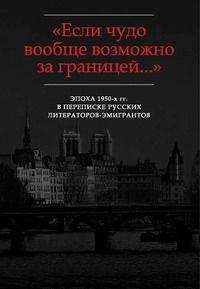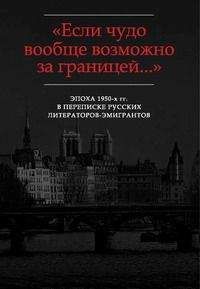В его «Черном и голубом» присутствие единой, основной темы с каждым стихотворением становится все очевиднее. По-разному и разными словами стихи в этой книге говорят об одном и том же. Но еще до того, как в книгу успеешь вчитаться, удивляет у Ладинского внешняя крепость, «пригожесть» его стихов. Как талантливо, как органично у него строфы складываются за строфами. Это не просто четыре строки с рифмами на конце, это действительно стихи, живущие своей таинственной жизнью, в которой есть и смысл, и ритм, и музыка, но одно неотделимо от другого, и одно другим дополняется. Не всем, быть может, эти стихи придутся по вкусу, — да и нет таких произведений искусства, которые нравились бы всем. Но невозможно отрицать их «право на бытие»: они не выдуманы автором для того, чтобы ему прослыть поэтом, они существуют, — и если уместно бывает когда-нибудь вспомнить старинное, далеко не во всех случаях верное сравнение «поэт поет как птица», то лучший повод трудно и найти. Ладинский действительно «поет», не зная ни за чем, ни для чего, — только потому, что для него это естественный способ выражения.
Каково содержание его стихов? Это вопрос, самая возможность постановки которого до сих пор многими бурно оспаривается, на мой взгляд, всегда законен. Только ответить на него не всегда легко, – потому что, конечно, дословным, так сказать, «прозаическим» смыслом стиха содержание его не исчерпывается. Однако стихи – не музыка, не только музыка, во всяком случае, ими можно насладиться, но о них можно и рассуждать. У Ладинского в глубине его поэзии лежит легкое, чистое, даже чуть-чуть принаряженное видение мира. Много в его стихах сладости, — но в противоположность Поплавскому, например, у которого сладость растекается во все стороны тяжелыми, всезатопляющими потоками, у Ладинского она суховата, остра, холодна. Дословный текст его стихов как будто бы говорит о безнадежности, о безысходной печали:
Не верьте обещаньям,
Что не забудут нас,
И голубым сияньям
Больших, но лживых глаз.
Земля — комочек пыли,
А небо — темнота,
Не будет на могиле
Ни розы, ни креста…
Но именно здесь, в истолковании поэзии и приходят на помощь ритм, звук, тон. Нет, не так говорят о безнадежности, и не таков голос подлинной человеческой печали. Без иронии можно было бы повторить толстовские слова — «он пугает, а мне не страшно». У Ладинского все законченно и стройно, сдержанно и литературно, он инстинктивно, бессознательно, может быть, хочет прежде всего очаровать, прельстить – это ему удается. Поэзия пронзительная, пронзающая, как бы выходящая за свои границы, – не его дело. Каждому свое. Замечу, что встречаются люди, – в настоящее время их особенно много, — которым в ограниченной области «чистого искусства» тесно только потому, что они в ней нежелательные, незваные гости. Это именно они, вульгаризируя Ницше, противополагают каждые пять минут начало «аполлоническое» началу «дионисийскому», это они «задыхаются» в поэзии, предпочитая ей мраки и бездны, более чем общедоступные… В Ладинском приятна честность, духовная скромность и опрятность. Отдаленно и рассеянно на нем есть пушкинский свет. Он не заигрывает, не кокетничает с «потусторонним», и если иногда вспоминает о нем, то лишь для того, чтобы признаться — (не без грусти, правда) — в своей непричастности ему.
Позволю себе поделиться впечатлением, быть может, слишком личным и потому не для всех убедительным: стихи Ладинского похожи на какой-то романтический балет вроде тех, которые любил Теофиль Готье… В них все волшебно, наивно, нежно, размеренно, меланхолично. Это не совсем «жизнь», это скорее «представление», — ни автор, ни читатель на этот счет не обманываются. Жизнь грубее, резче, она для одних несравненно ужаснее, для других неизмеримо прекрасней. В ней нет этих декоративных дымно-голубых потемок, этих лунных сияний, скал, роз и ангелов. Как наступающие призраки, проносят в поэзии Ладинского легчайшие образы: ломая в отчаянии руки, они еще кружатся на носке и не забывают улыбнуться умирая.
* * *«Мне хочется говорить о сокровищах человеческого духа – о книгах, когда я думаю и вспоминаю В. Диксона. Любить книгу – это дар. Мне хочется говорить о свете – о дарах света, когда я думаю и вспоминаю В. Диксона. Все, что есть от Бога прекрасного, дано ему было. Мне хочется словами повторить взгляд человека, отмеченного светом…»
Так пишет Ремизов в своем коротком, но замечательном предисловии к посмертной книге Владимира Диксона «Стихи и проза».
Диксон умер в Париже с год тому назад, совсем еще молодым человеком. Две его книги «Ступени» и «Листья», выпущенные в 1924 и 1927 гг., встречены были критикой и читателями, как говорится, «сочувственно», — однако не более того. Несколько статей и заметок, помещенных им в журналах, не многое прибавили к его литературой известности.
Сборник, изданный теперь друзьями покойного, богаче предыдущего. Конечно, и он только позволяет догадываться о том, что Диксон мог бы сделать: «свершений» в этой книге нет. К ним, пожалуй, можно было бы отнести некоторые рассказы Диксона, но рассказы отрывочны и малы. Внимаете еле успевает насторожиться, как автор уже умолкает – и не потому, чтобы действительно его повествование было окончено, а так, по капризу, усталости или рассеянности. О прозе Диксона нельзя выразиться, что она «удачна», это слово к ней решительно не подходит. Но она интересна, она не лишена прелести и даже в кропотливом психологизме своем прусто-джойсовского толка остается своеобразной. Скажу, однако, сначала несколько слов о стихах его.
Ремизов утверждает, что Диксон «отмечен светом». Читая диксововские стихи, веришь этому, несмотря на то, что в литературном отношении стихи его до крайности бледны. Христос, Россия, весна, небесная синь, «нездешняя нежность, чудесная ясность»… Поэт более искушенный, более глубокий понял бы, что эти слова нельзя повторять «всуе», хотя бы уж по одному току, что от частого повторения они потеряли свою действенную силу. Гоголь взывал «Русь, Русь!», обращался к «матери России» великий Некрасов, потом был Блок.
Одна во тьме нам светит Русь…
— после них писать это нельзя. Это ничего не значит. Нельзя пользоваться словами, образами и тоном, добытыми чужой страстью и чужой мукой, как какой-то разменной монетой. Но за постоянным диксоновским умилением, еще невоплощенным литературно, чувствуется все-таки душа живая, способная к порыву и жертве. Я не думаю, чтобы у Диксона был большой поэтический талант, и что, проживи он дольше, поэзия его окрепла и преобразилась бы.
Едва ли. Но и в теперешнем своем виде слабоватая поэзия эта привлекает своей напряженной человечностью, пробивающейся сквозь вялую литературную оболочку. В последнем из напечатанных в книге стихотворений Диксон говорит о себе картинно и верно:
А на земле останется за мною
Лишь слабый свет моих немногих слов,
Как снег, упавший тонкой пеленою
В прозрачной дали долгих вечеров.
Другое дело — проза Диксона. Как многие писатели, он, вероятно, впоследствии оставил бы стихи совсем, убедившись, что писал их не по истинному своему призванию и что в прозе ему гораздо больше удается сказать. Диксон, бесспорно, был прозорливым и тонким наблюдателем. Большинство рассказов его не содержит в себе никакого «случая», — или же случай этот совсем незначителен, — однако развитие их в высшей степени занимательно и прихотливо. Ремизов считает, что сила Диксона была бы в передаче «толчеи мысли»: это очень вероятно. О чем и как человек думает, куда порой уносится его воображение, как перескакивает он с одного предмета на другой — обо всем этом Диксон рассказывает чрезвычайно правдиво. Склонность к фантастике и сказочности дает иногда его прозе тот «нездешний отблеск», которого он тщательно добивался в стихах. Такие вещи, как «Письмо», «Ложь» или «Описания обстановки», смущают и волнуют: время, пошедшее на их чтение, во всяком случае не истрачено даром.
Особняком стоят в книге «Бретонские легенды» и «Жития бретонских святых». Диксон, наполовину русский, наполовину англичанин, любил Бретань и старинные кельтские предания. Он писал, что чувствует связь между миром «бретонским и нашим русским… Нечто совсем русское – чувствуется мне – в судьбах и страданиях бретонских святых». Эти легенды и сказания он и передал на русском языке и русским складом.
< «БРУСКИ» Ф. ПАНФЕРОВА >
Вот книга, которая за все время существования советской литературы имела наибольший официальный успех. Если бы теперешняя советская печать выражала общественное мнение страны, следовало бы сказать: вот книга, о которой говорит вся Россия.