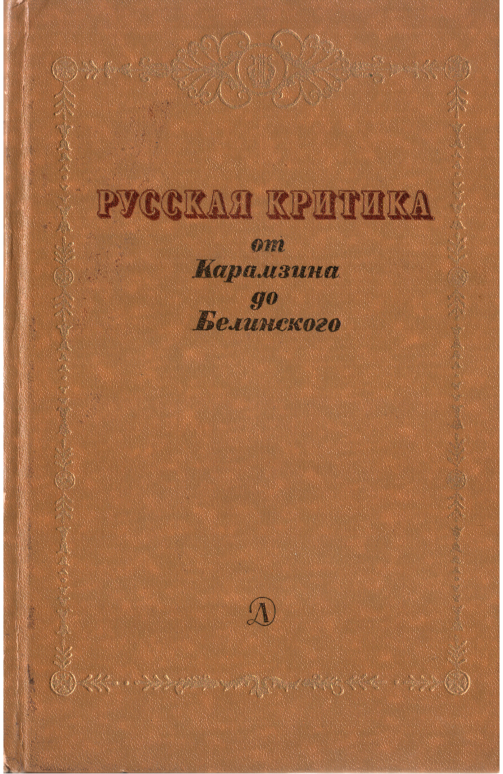он Елизавету Воробья в список душ мужского пола! Как хитро начал вилкою тыкать маленькую рыбку, уписав прежде целого осетра, и разыграл голодную невинность! С Собакевичем трудно было сладить дело, потому что он человек-кулак; его тугая натура любит торговаться; но уж зато, сладив дело, можно было оставаться спокойным, ибо Собакевич человек солидный и твердый и за себя постоит.
Галерея лиц, с которыми Чичиков обделывает свое дело, заключается скупцом Плюшкиным. Автор замечает, что подобное явление редко попадается на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться. Здесь так же, как и у других помещиков, деревня Плюшкина и дом его рисуют нам внешним образом характер и душу самого хозяина. Бревно на избах темно и старо; крыши сквозят как решето; окна в избенках без стекол, заткнуты тряпкой или зипуном; церковь, с желтенькими стенами, испятнанная, истрескавшаяся. Дряхлым инвалидом глядит дом; окна в нем заставлены ставнями или забиты досками; на одном из них темнеет треугольник из синей сахарной бумаги. Ветшающие кругом строения, мертвая беззаботная тишина, ворота, всегда запертые наглухо, и замок-исполин, висящий на железной петле,— все это готовит нас ко встрече с самим хозяином и служит печальным, живым атрибутом затворившейся заживо души его.
Вы отдыхаете от этих грустных, тяжких впечатлений на богатой картине сада, хотя заросшего и заглохшего, но живописного в своем запустении: здесь угощает вас на минуту чудная симпатия поэта к природе, которая вся живет под его теплым на нее взглядом, а между тем в глубине этой дикой и жаркой картины вы как будто проглядываете в повесть жизни самого хозяина, в котором также заглохла душа, как природа в глуши этого сада.
Взойдите в дом Плюшкина; все здесь расскажет вам об нем прежде, нежели вы его увидите. Нагроможденная мебель, сломанный стул, на столе часы с остановившимся маятником, к которому паук приладил свою паутину; бюро, выложенное перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем; на бюро куча исписанных мелко бумажек, лимон, весь высохший, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов... Далее картины на стенах, почерневшие от времени, люстра в холстяном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк, куча разного сора в углу, откуда высовывался отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога,— и одна только примета живого существа во всем доме — поношенный колпак, лежащий на столе... Как здесь во всяком предмете видится Плюшкин, и как чудно по этой нескладной куче вы уже узнали самого человека!
Но вот он и сам, похожий издали на свою старую ключницу, с небритым подбородком, который выступает очень далеко вперед и походит на скребницу из железной проволоки, какою чистят на конюшне лошадей,— с серенькими глазками, которые как мыши бегают из-под высоко выросших бровей... Плюшкин так живо видится нам, как будто мы его припоминаем на картине Альберта Дюрера* в галерее Дориа... Изобразив лицо, поэт входит внутрь его, обнажает перед вами все темные складки этой очерствелой души, рассказывает психологическую метаморфозу этого человека: как скупость, свивши однажды гнездо в душе его, мало-помалу простирала в ней свои владения и, покорив себе все, опустошив все его чувства, превратила человека в животное, которое по какому-то инстинкту тащит в свою нору все, что бы ему ни попалось на дороге,— старую подошву, бабью тряпку, железный гвоздь, глиняный черепок, офицерскую шпору, ведро, оставленное бабою.
Всякое чувство почти неприметно скользит по этому черствому, окаменелому лицу... Все умирает, гниет и рушится около Плюшкина... Немудрено, что Чичиков мог найти у него такое большое количество мертвых и беглых душ, которые вдруг так значительно умножили его фантастическое население.
Вот те лица, с которыми Чичиков приводит в действие свой замысел. Все они, кроме особых свойств, каждому собственно принадлежащих, имеют еще одну черту, общую всем: гостеприимство, это русское радушие к гостю, которое живет в них и держится как будто инстинкт народный. Замечательно, что даже в Плюшкине сохранилось это природное чувство, несмотря на то, что оно совершенно противно его скупости: и он счел за нужное попотчевать Чичикова чайком, и велел было поставить самовар, да, к счастию его, сам гость, смекнувший дело, отказался от угощения.
При Чичикове находятся еще два лица, два верные спутника: засаленный лакей Петрушка в сюртуке, которого никогда не скидает он, и кучер Селифан. Замечательно, что первый, находясь всегда около своего барина, подражая ему в костюме и умея даже читать, провонял, а Селифан, будучи всегда с лошадьми и в конюшне, сохранил свежую, непочатую русскую природу. Выходит на поверку, что у Чичиковых всегда так бывает: Петрушка — лакей совершенно по герою: это его живой, ходячий атрибут; глубоко замечание автора об том, как он читает все, что бы ему ни попалось, и как в чтении нравится ему более процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово. Кучер Селифан совсем другое дело: это новое, полное типическое создание, вынутое из простой русской жизни. Мы не знали о нем до тех пор, пока дворня Манилова не напоила его пьяным и пока вино не открыло нам всю его славную и добрую натуру. Напивается он пьян более для того, чтобы поговорить с хорошим человеком. Вино расшевелило Селифана: он пустился в разговоры с лошадьми, которых в своем простодушии считает почти своими ближними. Его доброе расположение к Гнедому и к Заседателю и особенная ненависть к подлецу Чубарому, о котором он надоедает даже и барину своему, чтобы его продать, взяты из натуры всякого кучера, имеющего к своему делу особое призвание. Похвалился наш пьяный Селифан, что не перекинет, а когда случилась с ним беда, как наивно вскричал он: вишь ты, и перекинулась! — Зато уж с каким радушием и покорностью отвечал он барину на его угрозы: «почему ж не посечь, коли за дело, на то воля господская... почему ж не посечь?..»
Из всех лиц, какие до сих пор являются в поэме, самое большее участие наше возбуждено к неоцененному кучеру Селифану. В самом деле, во всех предыдущих лицах мы живо и глубоко видим, как пустая и праздная жизнь может низвести человеческую натуру