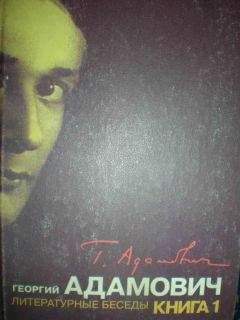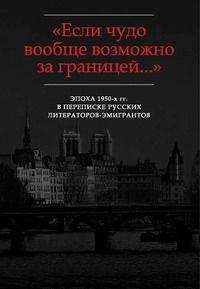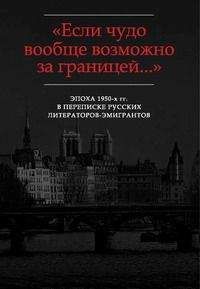Начинается восхождение Андрея Полозова. Первая его московская статья очень удачна. Она называется «Советский пантеизм». Тема ее остра и неожиданна. «Вот тебе и провинция», восторженно говорит редактор. Из всей статьи редактор вычеркнул одно только слово «соборный»: пахнет мистицизмом. Полозов вставил его в свою рукопись намеренно, «чтобы не произвести впечатление чересчур гладкого писателя». Статья иллюстрирована примерами. Вот рабочий, которому на строительстве оторвало обе ноги. «Что, товарищ, страшно умирать? – А что страшного. Вот, – жест в сторону строительства, – за меня теперь турбины побегают». Жизнь при советском строе одна, едина везде. Смерти нет… Опять было бы ошибкой думать, что Полозов – грубый, холодный обманщик. «Он, – замечает проницательный автор, – одарен был способностью создавать для себя временные убеждения, сообразно с интересами». Он писал с «условной искренностью».
За первой статьей последовали: «Бюрократизм как мировоззрение» и «Техника приспособления». Полозов достиг известности. Его имя упоминается в печати, на диспутах. Статья о приспособлении имела особенный успех. Он решился в ней на смелый ход. На основании собственного своего опыта он высмеял «приспособленцев». Никто не понял, что Полозов говорит о себе.
Полозов – виднейший московский журналист. Он ненавидит, презирает своих конкурентов. Ярцев, например? Невежда, дурак – но зато… из деревенских пастухов. «Шутка ли сказать: пастух! Что бы я натворил с этаким социальным происхождением!» Полозов удивлен: «как ухитряются он гореть на холодном пламени давно выветрившейся революционной фразеологии». Он лично увлекался недолго. Теперь он знает цену словам и фразам. «Всякий устраивается на свой лад, как может и как умеет, а “великая душа” современности почила сном мертвых, в 1919-1920 гг., под Перекопом и под Варшавой». Что дальше? Еще сорок лет прозябания, еще тысяча статей, «сорок томов перманентного восторга»… Полозову скучно. Вспомним: ему надо было «немного славы, немного житейских благ». Теперь он требовательнее.
Пролетариат в его представлении – деспот. Лести пролетариату довольно, он пресыщен ею. Ему нужны теперь жертвы. Царь Петр, желая испытать преданность бояр и связать их с собою жестокой порукой, приказал им когда-то самолично рубить головы стрельцам. Пролетариат хочет того же от слуг своих. Полозов чувствует, что его «первоначальная защитная окраска начинает выцветать. Пора изыскивать новые, более сложные, способы мимикрии». По счастью, подворачивается некий литературный салон, где «советской власти не то что сочувствуют, а не возражают против нее». (Автор дает блестящую едкую характеристику посетителей салона.) Полозов предпринимает «разоблачение». Он не твердо знает, чем собственно теперь занимается: литературой или доносами? Не все ли равно! Ему нужно доказать свою преданность революции. У него своя мораль: «этично все, что способствует торжеству Андрея Полозова». Общая мораль эпохи: «этично все, что способствует торжеству пролетарской революции» — его не удовлетворяет, он не верит даже, «чтобы кто-нибудь относился к ней серьезно».
Салон разоблачен, уничтожен. Полозов ищет других «стрельцов». Он безошибочно чувствует, на кого когда надо напасть. «Нередко тот, — говорит автор, — кто не живет жизнью своего времени, а только приспосабливается к ней, с изумительной прозорливостью определяет для себя малейшие сдвиги в окружающей его среде… Полозов никогда не запаздывал менять окраску и никогда не менял ее раньше времени». Впрочем, боясь как огня правого «загиба», Полозов изредка допускал «загиб» левый… «Его ласково поругивали, он смиренно каялся, иногда лишь разрешая себе этакую молодую и задорную строптивость». Энтузиазм, ничего не поделаешь.
Но в конце концов Полозов впал в уныние. «Он устал от второсортной советской славы, от булыжных мостовых, от бескорыстия, навязанного ему эпохой, от необходимости порочить и клясть западную цивилизацию, от людей, одержимых пятилеткой»… Он чувствует, что карьера его ограничена местными и историческими условиями. «Он никогда не насытится камнем всеобщего благополучия вместо хлеба личного преуспеяния». А молодость Полозова уже на исходе. «Дайте мне квартиру из трех комнат с ванной и газовой плитой, дайте мне свободу печати, дайте мне славу и деньги, много славы и много денег, дайте мне человечество, дайте мне парламент и собственную газету, дайте мне красивых бездельных женщин».
Мир вокруг Полозова «серьезен и суров». Вместо парламента и квартиры с ванной он предлагает ему место в ряду борцов за социализм. «Благодарю покорно! — отвечает Полозов. — Миллион лет ждала моя душа, чтобы выйти погулять на Божий свет, как сказал покойный писатель В. В. Розанов, а я буду еще стеснять ее всяческими рогатками и кормить социалистическими пайками».
Полозов замышляет бегство за границу, готовит покаянную антисоветскую речь… Но внезапно происходит катастрофа. Вместе с рукописью статьи о «соцсоревновании», он, по ошибке послал в редакцию журнала листок из своего дневника, – как раз со ссылкой на Розанова. Листок попадает в руки «видного товарища». Карьера Полозова гибнет.
Автор признается в заключение, что «не считает конец повести органичным». Он придумал его потому, что по старой литературной традиции ему захотелось «наказать порок». На деле множество Полозовых всех видов и толков продолжают успешное восхождение по советской лестнице. Их честолюбие не так болезненно, они вполне довольны и советской славой.
Это умное, сухое, насмешливое жизнеописание одного из «героев нашего времени» лишено каких бы то ни было беллетристических украшений. Но в неотвратимой логичности и правдивости своей оно увлекательнее любого романа.
ЛЕРМОНТОВ (15 / 28 ИЮЛЯ 1841)
Давно было сказано: «Лермонтова любят в детстве». Это и до сих пор верно. Лермонтов –
самое раннее литературное увлечение «русских мальчиков», их первая любовь, оставляющая долгий след в душе и сознании… Но и позднее, узнав другие обольщения, успев многое другое полюбить и разлюбить, после Пушкина, после Гоголя, после Тютчева, после Толстого и Достоевского, они к Лермонтову иногда возвращаются, уже иначе читая его, иначе привязываясь к нему. «И скучно, и грустно…», разумеется, «детское» стихотворение, скорее раздражающее взрослый ум, чем пленяющее его. Но есть у Лермонтова стихи, написанные приблизительно в то же время, стихи глубокие и прекрасные, которые в шестнадцать лет не оценишь и даже не заметишь.
Любовь к Лермонтову в ранней юности — хороший признак, хороший или, вернее, нормальный «показатель» для человека, — и, наоборот, безразличие к нему наводит на подозрения. У Лермонтова очень чистое представление о жизни, несмотря на пресловутое его разочарование или «безочарование», как выразился Жуковский. Огромные страсти, огромная печаль, ожидание какого-то огромного счастья — и, наряду с этим, отказ от всякого компромисса с необходимостью, с условностью, со всем вообще, что заставляет людей довольствоваться обыденным скудным существованием. Лермонтов рисуется в своей поэзии героем и жертвой. Героем юное создание восхищается, жертве сочувствует: читая гневные стихотворные филиппики против «хладного света», оно негодует в ответ, оно рвется в бой – и, повторяю, только душа больная и слабая, с природной червоточинкой, способна остаться глухой к лермонтовским призывам. «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой…» Эти 2 строчки в юности неотразимы. Что в сравнении с ними Пушкин! Разве у Пушкина есть такой лично-страдальческий тон, такая гипнотическая убедительность, такая резкость выражений и противопоставлений? Совершенство, чувство меры, мудрость?.. Но в шестнадцать лет все эти качества не очень дорого ценятся. И так это и должно быть.
Позднее многое у Лермонтова начинает казаться риторикой. Он разделяет в этом отношении участь Байрона, от влияния которого за короткую свою жизнь не успел вполне избавиться… Байрон – странная, почти загадочная фигура в истории поэзии. Мало кого так любили современники и ближайшие потомки, мало кому суждено было впоследствии такое полное «посмертное» охлаждение. Правда, англичане в большинстве случаев всегда относились к Байрону сдержанно и отзывались о нем скептически, но остальная Европа долгое время была от него без ума. И какие судьи, какие ценители склонились перед ним: Гёте, на старости лет все, кажется, познавший и все понявший, восхищался им безгранично; Пушкин в псковском своем уединении отслужил панихиду о рабе Божьем Георгии – это красноречивее всякого отзыва, а если нужен отзыв, то достаточно вспомнить, что он отвел Байрону место близ Данте. Можно было бы привести и другие суждения, но к чему – после этих двух? Перечитывая Байрона теперь, недоумеваешь. Нельзя не верить Пушкину и Гёте, но нельзя и признать гениальной поэзией эти грубоватые, многочисленные произведения, однообразные, размашистые, приправленные не Бог весть каким юмором… Разумеется, по некоторым байроновским вещам догадываешься, чем он был для современников: есть и до сих пор декоративная, меланхолическая прелесть в «Чайльд Гарольде», особенно в последней его песне; есть пленительная райская свежесть в «Острове». Но «Каин» и даже «Манфред» выветрились вполне, а бесконечный «Дон-Жуан», о котором Пушкин сказал: «чудо», сплошь и рядом сбивается на скучнейшую болтовню. На этот счет давно уж нет двух мнений – упорствуют только принципиальные охранители культа всех прежних кумиров, «ревнители благочестия» по профессии. И не покорность прихотям литературной моды заставляет любителей поэзии сходиться в недоумении перед Байроном, а, наоборот, простая читательская честность.