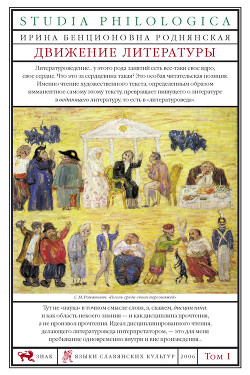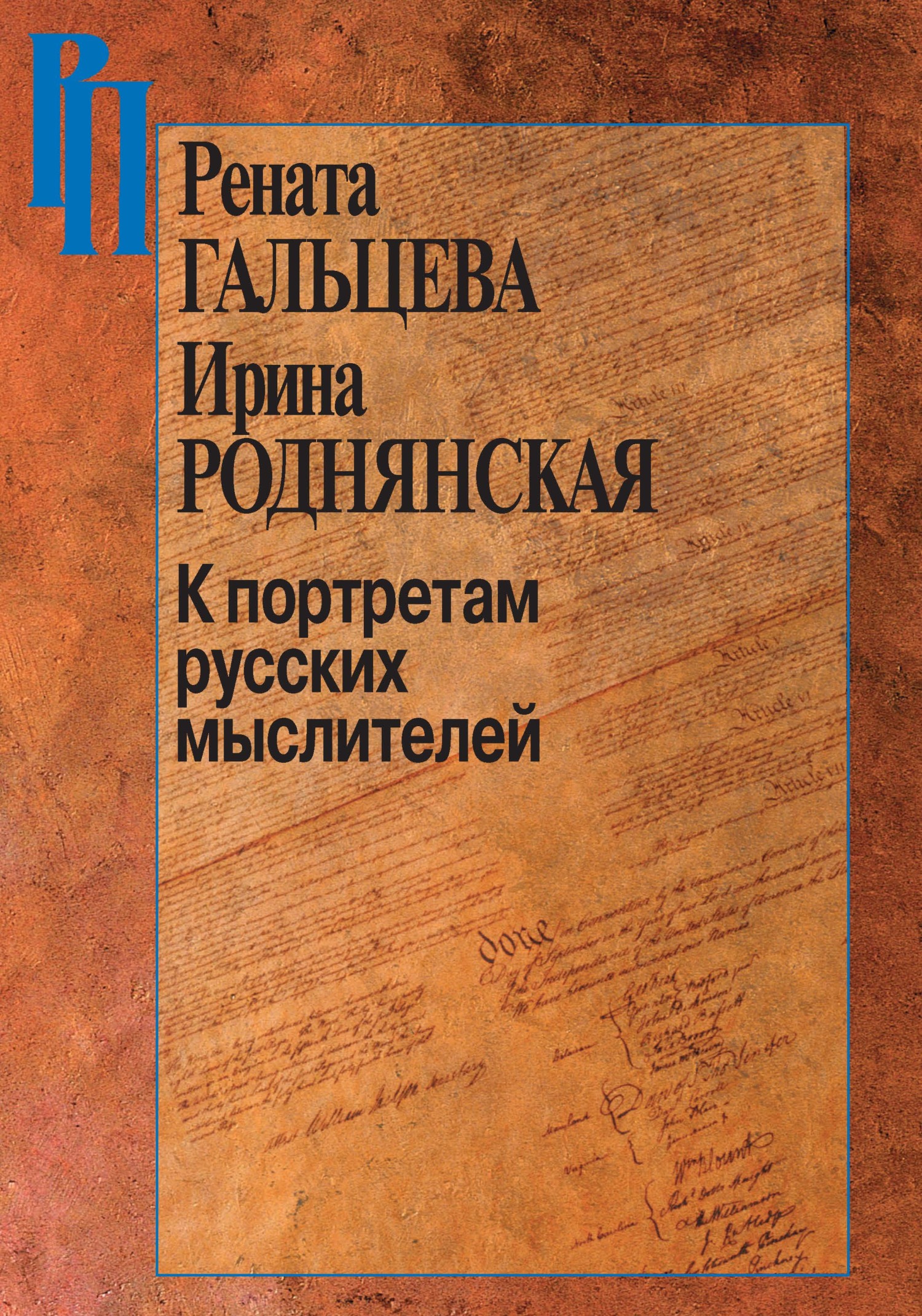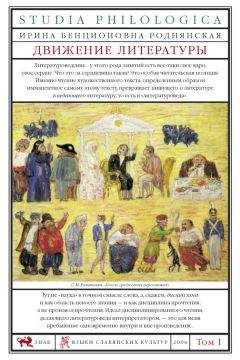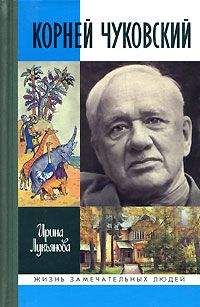Насколько ужасна лакейская невозмутимость Официанта, настолько же смешна надутая серьезность Мечеткина, «солидного» чулимского женишка. Этот не прельстит, как следователь Шаманов, и не снасильничает, как отчаянный парень Пашка Хороших. Этот надежен. В глазах людей он, конечно, шут гороховый, но доведись ему пробраться хоть на какое место повыше, со всей зловещей административной прытью набросится он на таких, как таежный житель Илья Еремеев, – на самых честных и самых беззащитных (рядом с Мечеткиным вспоминается тип «казенного человека» Авинера Козонкова из беловских «Плотницких рассказов»). В «Двадцати минутах с ангелом» к участию в финальном, всепримиряющем хоре не допущен только один, «серьезный», субъект – аккуратный, с правилами инженер Ступак…
И вот этому-то прозаическому «занудству», граничащему с хамством и тупостью, герой Вампилова противопоставляет дерзость «легкого человека», своевольное хотение, победительную хватку, театральное упоение игрой на людях (недаром неудавшийся супермен Зилов носит имя Виктор – «победитель»). Конечно, в первую очередь все это – с женщинами или в борьбе за женщину. Шаманов почувствует себя пробудившимся к любви только после того, как сыграет в опасную игру со своим соперником Пашкой и подставит себя под дуло пистолета. Не напрягись «бездны мрачной на краю» его нервы, неизвестно, запылало ли бы сердце. Дурно ли это? Этот волевой азарт жизни – обоюдоострый, с разными возможностями смыслового наполнения. В Зилове он дурен, так как попусту и пакостно растрачивается, а в Шаманове, пожалуй, что и хорош, ибо кое-что еще обещает. Но как бы то ни было, волевая пружинистость привлекательна: герой Вампилова – всегда герой-любовник.
И еще: персонаж этот привык ощущать себя не таким, как все, и автор не торопится его за это осудить. Не только сугубо отрицательный Зилов, но и куда более симпатичные герои Вампилова смеют говорить о людях отстраненно: «они» – обо всех скопом. В «Старшем сыне»: «Бусыгин. Этим ты их не прошибешь… Плохо ты людей знаешь… У людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто… Их надо напугать или разжалобить». Ну, ладно, Бусыгин попадет через минуту в общество людей с чувствительной кожей и чистым сердцем и закается так судить про всех подряд. Но вот диалог Шаманова с Валентиной («Прошлым летом в Чулимске»). Валентина, если помните, все время чинит символический палисадник, разрушаемый небрежно шагающими, небрежно живущими посетителями чулимской чайной. «Валентина (делаясь серьезной). Я чиню его для того, чтобы он был целый. … Шаманов (покачал головой). Напрасный труд… (меланхолически). Потому что они будут ходить через палисадник. Всегда. … Валентина. Неправда! Увидите, они будут ходить по тротуару. Шаманов. Ты возлагаешь на них слишком большие надежды». Романтическое избирательное распределение зрительского интереса: герой, героиня и все прочие, до них не дотягивающие, – эта расстановка сохраняется в композиции всех вампиловских драм.
Вампилов начинал как прозаик, как автор коротких рассказов. Тогда только-только наступало время, о котором Макарская в «Старшем сыне» говорит своему чересчур юному вздыхателю: «Ты должен дружить с девочками. Теперь в школе, кажется, и любовь разрешается – вот и чудесно». Разрешается любовь, допускаются и даже входят в моду случайные знакомства на улице, быстрые переходы от знакомства к поцелую. Старая тетка ворчит: «Таких, милая, гнать надо… Он случайно не Эдик? Мне почему-то кажется, что все Эдики ходят в узких штанах. И все – негодяи» (из рассказа Вампилова «Глупости», 1958 г.), – и начинающий автор приглашает посмеяться над глупой теткой. Пройдет что-то около десяти лет, и уже не тетка-ретроградка, а молодая женщина будет звать виновников ее дурной репутации, падких на скорые завязки и развязки, – всех без исключения – «аликами». (А Зилова, героя «Утиной охоты», назовет «аликом из аликов» – негодником в квадрате).
В общем, можно сказать, что этот, центральный для Вампилова, тип проделывает путь от мило эмансипированнного «эдика» до вконец изолгавшегося и себе же противного «алика». Но тем не менее он не перестает быть человеком, причастным, так сказать, к ценностному фонду автора, и исходные идеалы, суду коих он согласился бы подлежать как утраченной вере своей юности, не предназначены Вампиловым для осмеяния. Свобода, любовь, защита своей чести, приправленная юмором искренность, живая неуправляемость в чересчур регламентированном мире – за всем этим стоит имеющая давний и бесспорный источник вера в неотъемлемое достоинство личности. Вампиловская непатриархальная этика для наших дней столь же традиционна, имея прочную выслугу лет, как и та, патриархальная, нравственность, из-за гибели которой страдает и мечется беловский Константин Зорин.
3. Холодный очаг
«Никогда вовек я не забуду этих людей».
В. Белов. «Моя жизнь»
История Константина Зорина начинается в «Плотницких рассказах». Впрочем, с их выходом в свет никто еще не мог бы распознать будущего героя беловского цикла в скромном слушателе стариковского многословия, в этом лирически задумчивом повествователе, приехавшем в родную деревню, чтобы хоть на месяц раздуть пламя в потухшем очаге отчего дома. Тогда думалось, что перед нами двойник автора, почти то же самое «я», от чьего имени написан элегический «Бобришный угор»: «И в мое сердце стучит пепел: на наших глазах быстро, один за другим потухают очаги нашей деревенской родины – истоки всего. Спасибо за дружбу, последний наш деревенский кров: видно, так надо, что нет нам возврата туда, видно, что это приговор необратимого времени». И мы не сомневались тогда, что главное в «Плотницких рассказах» – не отпускная жизнь Зорина в деревне, а давнишняя тяжба между деревенским плотником и деревенским активистом, уже примиренная временем и общинным духом сельских взаимоотношений, но все-таки еще тлеющая в поучение и осмысление внукам.
Но у писателя сложился круг тем, связанных с судьбами людей, покинувших деревенский «мир», с жизнью городской семьи, взятой под углом «деревенской» оценки, и тут Зорин, его биография пришлись как нельзя кстати. Теперь, в совокупности с «Моей жизнью», «Воспитанием по доктору Споку» (вещь, давшая название циклу), «Свиданиями по утрам», «Чоком-получоком», «Плотницкие рассказы» читаются как повесть из современной жизни (хоть и уходящей корнями в прошлое), как самоновейшая глава того вольного эпоса о выходцах из Шибанихи, Н…хи, Бердяйки, в который вплетены и «Кануны», и «Привычное дело», и все вообще сельские повести Белова. И когда Константин Зорин попадает в центр нашего интереса, оказывается, что все эти вещи, пусть и сквозь узкую щель, можно рассматривать как предысторию его личной трагедии и душевного отощания. [295]
«Юношественность», «молодость» – часто категории не возрастные, а идейные. Когда Белов писал строки об «упрямстве и гордости юношеских поколений, не верящих на слово отцам и дедам», он сам, пожалуй, по возрасту мог бы еще представительствовать от этих гордых «поколений», кабы не тяга к дедам и отцам. Уже работая над зоринским циклом, Белов набрасывает примечательную зарисовку – «На вокзале»: ждут поезда на заброшенной станции старушка и бойкий парень из «нынешних», оба деревенские. Старуха всю жизнь в девках просидела в своей деревне, ничего-то, кажется, на свете и не видела, но ей есть о чем молчать, есть о чем, уйдя в себя, подумать, а уж когда она заговорит, то сразу найдет душевно и эстетически точное слово: «Дак чего одна-то делала столько годов? – А всю жизнь только пела да плакала!». Парень же томится скукой, невозможностью выискать в пустой голове тему для разговора, – а все пыжится от самодовольного превосходства над старухиной «необразованностью». Между тем, неизвестно, у кого отношения с культурой теснее. По крайней мере, старуха уж точно знает на одно греческое слово больше («алектор» – петух, из евангельского рассказа об отречении Петра), и оно для нее явно нужное, обиходное (а вместе с тем «высокое») – не столь бесполезное, как общеобразовательные познания парня, задающего идиотский по неуместности вопрос: «А “Прынц и нищий” читала?»