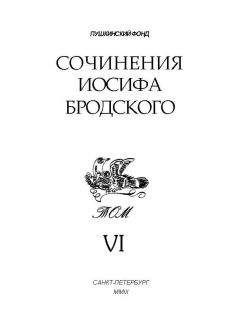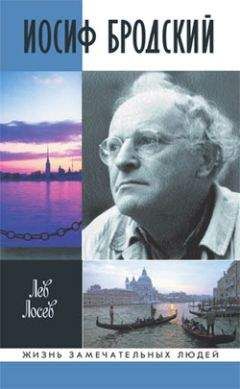Живи добрей, страдай неприхотливей
Первая полоса
Живи добрей, страдай неприхотливей
Евгений РЕЙН
Великая человеческая печаль заключается в ранней смерти Иосифа Бродского. И сейчас, спустя четырнадцать лет после его смерти, в русской поэзии неизменно продолжает ощущаться некая пустота. Поэзия вроде бы продолжается, но она стала похожа на заводь, на дне которой бьют несколько десятков ручейков. Больше у этой заводи нет главного течения, а потому выплыть на стрежень невозможно. Происходят разнообразные мутации, самого разного пошиба: талантливые, симпатичные, второстепенные, графоманские, – но если бросить плот, связанный из тяжёлых брёвен, то его никакая сила по течению не потащит. Видимо, так и должно быть после того, как окончилась миссия такого выдающегося поэта, каким был Бродский. Нам остаётся ждать какого-то иного большого явления или даже не явления, а какой-то идеи, которая со временем образовала бы это новое течение.
Бродский прошёл несколько очень отчётливых этапов, причём в юности эти этапы у него довольно часто сменялись. Потом он уже сформировал свой собственный стиль. Однако последние, скажем, двадцать – двадцать с чем-то лет у него таких этапов не было. Менялись всякого рода настроения. Но сердцевина, в смысле идеологии, и техника уже были однажды созданы, и он их, на мой взгляд, практически не менял. А вот в молодости, он, как Пикассо, прошёл довольно быстро несколько периодов, которые друг на друга совершенно не похожи.
Когда я с ним познакомился, а это был сентябрь 59-го года, он писал такие стихи, которые потом сам же терпеть не мог и, я думаю, никогда бы не напечатал. Он был тогда совсем молодым человеком, ну, может быть, и не молодым для поэзии, потому что поэзия – удел молодых, но ему было уже восемнадцать-девятнадцать лет, и он больше всего увлекался модернистской западной поэзией – околореволюционной, потому что никакую другую у нас в те времена не переводили.
Это были Назым Хикмет, Пабло Неруда, Яннис Рицос. С точки зрения европейца, западного человека, это были очень большие поэты. Неруда и Рицос – нобелевские лауреаты, и они, видимо, действительно большие поэты, хотя мы знаем их в переводах. Иосиф был их явным подражателем, хотя и Неруда, и Хикмет, и Рицос, и окружающие их поэты все писали свободным стихом. Иосиф же в это время почти не использовал свободный стих, он писал нормальные русские стихи, регулярным стихом, с рифмой, от этих стихов мало что осталось. Я даже затрудняюсь сейчас привести какой-то пример, но параллельно он писал своих «Пилигримов».
Приблизительно полгода, год спустя в его поле зрения, видимо, попали советские поэты 20-х годов: Тихонов, Багрицкий, Сельвинский, и его поэтика сильно изменилась, он не стал стопроцентным подражателем, но он резко отошёл от этого своего переводного модернизма и стал писать иначе. «Воротишься на Родину, ну что ж…» или «Не забывай никогда, как плещет в пристань вода». Однако, по всей видимости, его это тоже мало устраивало. Он искал что-то другое, искал и нашёл.
Я прекрасно помню момент, когда это случилось. Это было седьмого ноября 61-го года. У нас был удивительный приятель, который уже умер, – Борис Понизовский. У Понизовского была квартира на Коломенской улице в Ленинграде. И наша компания часто там собиралась. Мы собрались по поводу седьмого ноября, хотя никто из нас седьмое ноября, естественно, не отмечал, просто удобный случай для того, чтобы поболтать и выпить. И кто-то из моих московских приятелей, Валя Хромов или, может быть, это был Лёня Чертков, приехал из Москвы и привёз машинописные перепечатки поэм Цветаевой. (В те времена было заведено, что на ноябрьские праздники ленинградцы ездили в Москву, а москвичи – в Ленинград.) Это были «Поэма Конца», «Поэма Горы», «Царь-девица» и «Крысолов». И эти поэмы они передали мне, причём я должен был их вернуть дня через три, когда приятели уезжали обратно в Москву. И так как прочесть эти поэмы каждый из нас за столь короткий срок не успевал, то мы собрались у Понизовского и, попивая сухое винцо, стали их там читать вслух с листа. И, наверное, на Бродского это произвело громадное впечатление. Он подошёл ко мне и сказал, что умоляет меня дать ему на одну ночь всю пачку Цветаевой. И я ему на одну ночь эту пачку дал. И, видимо, это так совпало с умонастроениями Бродского в тот момент, что он сделал решительный поворот в сторону Цветаевой.
Немедленно в его стихах стала проявляться цветаевская техника, с её таким витым, верёвочным стихом, со всеми цветаевскими настроениями и идеями. И приблизительно в это же время он задумал поэму «Шествие», которая чрезвычайно похожа на Цветаеву, особенно на «Крысолова», буквально во всех отношениях. От конструкции, введения отдельных персонажей, самой техники стиха до максималистских, цветаевских идей. Это цветаевское влияние, оно очень обширно и значительно в творчестве Бродского, однако в таком чистом виде оно проявилось главным образом в поэме «Шествие». К этому времени он уже как бы созрел для того, чтобы создать нечто своё, и в некоторых его стихах, скажем, 61—62-го годов, это отчётливо проявляется. Им ещё владеют такая цветаевская энергия, цветаевский звук, мелос, но стихи уже можно считать вполне «бродскими», если можно такой термин употребить.
В этом смысле очень характерен «Рождественский романс», который Иосиф мне написал на день рождения. Там доминирует найденный им лирический напор, всепобеждающий звук, и он уже смешан с такими метафорическими открытиями, которые лежат в основе будущей поэтики Бродского. Приблизительно тогда же он стал открывать для себя такие вещи, которые очень важны для его последующего развития, но которые ещё в стихах мало воплощались. Он говорил, в частности, что вся русская поэзия замешена на французской, что со времён пушкинской плеяды мы все так или иначе связаны с французской поэзией, сам Пушкин связан с Шенье и Парни. А дальше, во второй половине века, наши поэты связаны – с Верленом, Рембо, Бодлером, именно они оказали такое подавляющее влияние. Под их влиянием писали первые символисты: Анненский, Брюсов, Сологуб. Он считал, что это влияние фактически исчерпано, что на этом поле почти нечего делать, но зато мы прошли мимо англо-американской поэзии, которая, на его взгляд, гораздо значительнее и интереснее, чем французская.
Тогда же, как признак его интереса к англоязычной поэзии, появилась «Большая элегия Джону Донну», это косвенно связано с тем, что шли разговоры о том, чтобы сделать переводную книгу «елизаветинцев» и Джона Донна. Бродский даже вёл какие-то переговоры на этот счёт, он много об этом думал, пытался переводить, но, в общем, сделал немного, стихотворений пятнадцать. Когда он уже собрался в эмиграцию, то есть практически через десять лет, издательство «Наука» заключило с ним договор на книгу стихов Джона Донна и поэзии его круга, которая должна была выйти в серии «Литературные памятники». Он этот договор подписал, но переводы не выполнил, так как уехал и уже больше этим не занимался.
Он вообще был замечательным читателем: если углублялся в какую-то сферу, то всегда умел из этой сферы что-то для себя извлечь. Так, одно время он переводил поляков (в основном Галчинского), и это тоже, я думаю, как-то на него повлияло. Но самым внимательным, решительным образом он прочёл английскую поэзию в ссылке, в деревне, куда ему прислали антологии английской и американской поэзии. И вот, когда он прочёл эти такие совершенные, с большим пониманием отобранные книги, в нём и завершился некий процесс формирования его поэзии. И произошло это в деревне Норенская, где он написал замечательные, на мой взгляд, большие свои стихи: «Новые стансы к Августе», «Два часа в резервуаре», «Старому архитектору в Риме» – и немало других.
Если их внимательно посмотреть, там уже есть практически весь Бродский. Он только ещё не перешёл к крайней мизантропии и к такой серой палитре своих стихов, которая появилась у него впоследствии. Но уже и образность, и его личная философия были в этих стихах проявлены. Другое дело, что это ещё он излагает при помощи неких стилизаций на основе немецкого филистерства, как в «Двух часах в резервуаре», или на основе европейской натурфилософии, как в «Новых стансах к Августе». Там ещё есть достаточно светлые краски, от которых он потом совершенно отказался. Вернувшись из ссылки, он иногда пишет такие стилизованные картинки, вроде замечательного стихотворения «Стихи на смерть Т.С. Элиота». Но это, по сути, перевод стихов Одена «На смерть Йетса», просто Иосиф как-то его переписал на другой тематической основе.