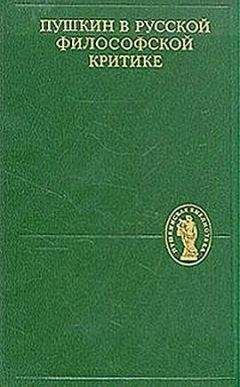Об антихристовом добре
Настоящие критические замечания имеют в виду концепцию "Легенды об антихристе", предлагаемую в "Трех разговорах", В. Соловьева: точнее, одну из сторон этой концепции, весьма существенную для Соловьева последнего периода и для эсхатологии новейшего времени.
Теперь Соловьева мало читают. Многие относятся к нему свысока, как к превзойденному, или с подозрением, как к еретичествующему. Из всего его литературного наследства, если не говорить о поэзии, одни "Три разговора" не утратили власть над умами и, вероятно, не скоро утратят ее. В этом последнем предсмертном произведении Философа живет волнующая острота проблематики, необычайная зрелость видения, словно преступающая меру видения художественного. Автор, для которого был "ощутителен и не так уже далекий образ бледной смерти" (Предисловие, датированное Светлым Воскресением 1900 г.), перерастает границы литературной формы и в своей Легенде говорит с вдохновением почти пророческим.
Именно как пророчество она была и принята; как пророчество, она живет в среде русской христианской интеллигенции, просачиваясь в широкие церковные круги. Люди, враждебные Соловьеву, твердо стоят на этом его завещании, в котором мыслитель отрекается от того, чему служил всю свою жизнь: от идеала христианской культуры.
Произошло поразительное искажение перспективы. Уже плохо различают своеобразно-соловьевское в образе антихриста от традиционно-церковного, Антихрист "Трех разговоров" для многих стал образом каноническим. Кажется, что он просто транспонирован из Апокалипсиса в современный исторический план. И в свете этой иллюзии приобретает ложно-традиционный и канонический характер идея антихристова добра.
Может быть, мы ломимся в открытые двери, показывая цитатами то, что всем понятно: что дело антихриста у Соловьева совершается в форме служения добру. Эти цитаты - лишь ради точности. А что сам Соловьев именно усматривал значительность своей идеи, явствует из предисловия к "Трем разговорам", напечатанного в газете "Россия" под заглавием "О поддельном добре",
Антихрист Соловьева прежде всего "спиритуалист" и человек строгих добродетелей. "Не обманом чувств и низких страстей и даже не высокою приманкой власти" соблазнить его. "Помимо исключительной гениальности, красоты и благородства, величайшие проявления воздержания, бескорыстия и деятельной благотворительности, казалось, достаточно оправдывали огромное самолюбие великого спиритуалиста, аскета и филантропа". Лишенный подлинной любви к добру ("любил он только одного себя"- Курс B.C.), он питает свою самость сознанием своих сверхчеловеческих добродетелей и дарований,- ведь это, как сказано, "человек безупречной нравственности и необычайной гениальности". Словом, это "горделивый праведник". Его этика прежде всего каритативна, социальна. "Не только филантроп, но и филозой", "он был вегетерианцем, он запретил вивисекцию и учредил строгий надзор за бойнями; общества покровительства животных всячески поощрялись им". Делом его жизни является установление всеобщего мира на земле и "равенства всеобщей сытости". Его книга, которая пролагает ему путь власти над миром, завоевывает мир словом, а не мечом, обезоруживает даже врагов своим высоким идеализмом. "Здесь соединяется благородная почтительность к древним преданиям и символам с широким и. смелым радикализмом общественно-политических требований и указаний, неограниченная свобода мысли с глубочайшим пониманием всего мистического, безусловный индивидуализм с горячей преданностью общему благу, самый возвышенный идеализм руководящих начал с полною определенностью и жизненностью практических решений". В ней отсутствует имя Христа, но все "содержание книги проникнуто истинно-христианским духом деятельной любви и всеобщего благоволения..." Таков антихрист: в слове, в деле и даже наедине со своей совестью - воплощенная добродетель, даже христиански окрашенная, хотя и в корне погубленная отсутствием любви и непомерною гордыней. Этот изначальный порок делает его (лжемессией, причастником сатанинской благодати и в заключительном столкновении с исповедниками Христа превращает человеколюбца-мудреца в отвратительного тирана.
Первый вопрос, который мы себе ставим: принадлежит ли образ добродетельного антихриста к составу церковного эсхатологического предания?
Для всякого читателя "Разговоров" ясно, как внимательно автор относился к этому преданию, как много даже внешних черт он почерпнул отсюда: рождение антихриста от неизвестного отца и "сомнительного поведения" матери, таинственная связь с сатаной, роль мага Аполлония, соответствующего зверю, выходящему из земли (Апок. 13, 11), его чудеса ("огонь с неба"), Иерусалим как место последней борьбы, восстание иудеев против антихриста, смерть двух свидетелей, бегство верных в пустыню и т. д.- все эти черты глубоко традиционные. Однако ясно, что кое в чем Соловьев сознательно отступил от предания. Так, в "свидетелях" он видит не восставших Моисея и Илию (или Еноха, Иеремию), а Петра и Иоанна, воплощающих Западную и Восточную церкви. Развивая эту идею, он должен был прибавить к ним Павла (доктора Паули), уже не имеющего никаких оснований в традиции, как и все видение последнего соединения церквей. Бросается в глаза и бледность кровавого фона, на котором раскрывается последняя трагедия. Нашествие монголов изображается в схематических чертах. Мы ничего не слышим об опустошении Европы, к тому же христианское человечество скоро свергает это иго и в последнем столетии своего бытия наслаждается прочным миром. Тоже вскользь (в предисловии) говорится о последнем гонении, во время которого гибнут многие тысячи и десятки тысяч верных христиан и евреев. Дело антихриста совершается в мире, в тишине зрелой и завершенной цивилизации,- такова, очевидно, идея Соловьева, тесно связанная с идеей добродетельного антихриста. Монголы притянуты за волосы - отчасти как отголосок преследовавшей воображение Соловьева "желтой опасности", отчасти ради соблюдения апокалилтических приличий.
Все это заставляет нас подойти и к портрету антихриста в легенде с сугубой осторожностью. Нас интересует здесь лишь одна черта этого образа: его добродетельность. Принадлежит ли она к общецерковному преданию? Мы вынуждены ограничиться краткой справкой, хотя эта тема по важности своей заслуживала бы самостоятельной работы. Лучший исследователь предания об Антихристе Буссе[1] странным образом обошел этическую сторону легенды. А между тем именно в этом пункте предание оказывается наименее устойчивым по сравнению с внешне биографическими подробностями.
Как известно, в Новом Завете к антихристу относятся следующие места: Иоанна 2, 18; Фессал. 1, 2; Отк. 13. Лишь автор послания Иоанна дает это имя, впрочем, не только в единственном числе (антихристы наряду с антихристом). Апокалипсис Иоанна отнюдь не лежит в основе святоотеческой традиции, как можно было бы думать, исходя из современных представлений. Не все отцы церкви принимают Апокалипсис как каноническую книгу (напр., св. Кирилл Иерусалимский) , и большинство подходит к Антихристу не от новозаветных текстов, а от пророчества Даниила (гл. 7). Впрочем, Буссе, по-видимому, прав, считая, что миф об антихристе развивается в христианской церкви в значительной степени независимо от Священного Писания, на основе какой-то эзотерической, вероятно, иудейско-мессианистической традиции, не закрепленной ни в одном из дошедших до нас памятников.
По отношению к этическому пониманию антихриста можно проследить два течения - мы ограничиваемся древней и преимущественно греческой патристикой. Первое восходит к св. Ипполиту, второе - к св. Иринею.
У св. Ипполита читаем: "Во всем соблазнитель сей хочет казаться подобным Сыну Божию... Снаружи явится, как ангел, волком будет внутри"[2].
Этот параллелизм ложного подражания Христу проходит через всю биографию антихриста у Ипполита, однако не получая этического содержания. Формула "агнца" остается нераскрытой, если отвлечься от псевдоипполитова позднего произведения "О свершении века".
Определение св. Кирилла Иерусалимского: "Сначала как муж разумный и образованный, он напустит на себя лицемерную умеренность и человеколюбие. Потом же будучи признан Мессией, покроет себя всеми преступлениями бесчеловечия и беззакония, так что превзойдет всех бывших до него злодеев и нечестивцев,- имея ум крутой, кровожадный, безжалостный и изменчивый" [3].
Св. Ефрем Сирин явно развивает мысль Ипполита и дает наиболее полный образ лицемерного праведника: "Он примет зрак истинного пастыря, чтобы обмануть стадо... Представится смиренным и кротким, врагом неправды, сокрушителем идолов, великим ценителем благочестия, милостивым, покровителем бедных, необычайно прекрасным, кротчайшим, ясным со в семи. И во всем этом под видом благочестия будет обманывать мир, пока не добьется царства". После воцарения своего он сбрасывает маску: "Теперь он уже не благочестив, как прежде, не покровитель бедных, а во всем суров, жесток, непостоянен, грозен, неумолим, мрачен, ужасен и отвратителен, бесчестен, горд, преступен и безрассуден" [4].