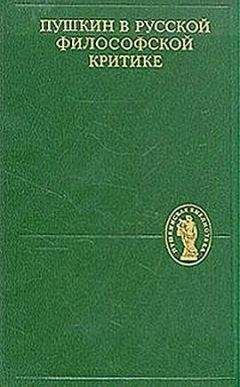Чему учит этот опыт?
Во-первых, тому, что дело вселенского, а не катакомбного только строительства церкви не безнадежно. Европейская культура в свои духовных вершинах опять готова, как спелый плод, упасть к ног Христа. Мир, по-видимому, вступает в новую эру христианской культуры. Снова церковь призвана выйти из подземелий (или семинарий) на улицы города, в аудитории университетов и во двор парламентов. Готовы ли мы к тому?
Во-вторых. Противник, "антихрист", который еще силен, перестал носить маску гуманизма, т. е. человеческого добра. Враждебная христианству цивилизация в самых разнообразных проявлениях своих становится антигуманистической, бесчеловечной. Бесчеловечна техника, давно отказавшаяся служить комфорту ради идеи самодовлеющей производительности, пожирающей производителя. Бесчеловечно искусство, изгнавшее человека из своего созерцания и упоенное творчеством чистых, абстрактных форм. Бесчеловечно государство, вскрывшее свой звериный лик в мировой войне и теперь топчущее святыни личной свободы и права в половине европейских стран. Бесчеловечны (принципиально, т.е. антигуманистичны) одинаково и коммунизм, и фашизм, рассматривающие личность как атом, завороженные грандиозностью масс и социальных конструкций.
Многие видят теперь в коммунизме предельное выражение антихристова натиска на христианство. Пусть так. Но что открыла нам Россия? Неужели коммунизм может быть причислен к типу гуманистических мировоззрений, а творимое им дело к соблазну добром? Для марксизма, особенно русского, характерна с самого начала положительная ненависть к этическому обоснованию своих целей. Для него нет ничего презреннее "слюнявого идеализма". Не состраданием и даже не справедливостью соблазняет он ("разве есть внеклассовая справедливость?"), а только удовлетворением интересов; не благом, а благами и, еще в подсознательном, но действенном центре своем, сладостью мести, пафосом классовой ненависти.
Необыкновенно поучительно вообще развитие - вернее, возрождение - социалистической идеи за последнее столетие. Сперва она является в виде христианской секты, жившей пафосом человечности:. Вейтлин, Сен-Симон, Жорж Санд . Такой знал ее петрашевец Достоевский, посвятивший всю жизнь на ее разложение. Потом марксизм и социал-демократия. Не гуманизм, но все-таки гуманность, утилитаризм, но связанный этосом буржуазного XIX века. Наконец, коммунизм, порывающий и с этикой, и с гуманизмом. Впрочем, ту. же линию мы можем проследить и в идеологиях реакции, кончающей культом грубой силы и диктатуры. Итак, чистая, безбожная человечность не является последним соблазном - в пределах нашей культуры. Это среднее, исчезающее ныне звено нисходящего ряда: Богочеловек - человек - зверь (машина)* Теплота человеческого добра ("не холоден, не горяч") лишь процесс охлаждения пламенной любви Христовой к лицу человеческому - "единому из братьев моих". Она может быть временной маской темной силы-все годится в личины для не имеющего Лица,-но маска уже срывается . Она стеснительна. Соблазн человекоубийства для темных душ действеннее соблазнов человеколюбия.
Откуда возникает иллюзия тонкого обмана в том, что по существу является лишь фазой наивного огрубления духа? В XIX веке христианская церковь, оскудевшая святостью и еще более мудростью, оказалась лицом к лицу с могучей, рационально сложной и человечески доброй культурой. Перед ней прошел соблазнительный ряд "Святых, не верующих в Бога". Для кого соблазнительных? Для немощных христиан - а как мало было сильных среди них! В панике, и сознании своего исторического бессилия и изоляции, поредевшее христианское общество отказалось признать в светских праведниках заблудших овец Христовых, отказалось увидеть на лице их знамение "Света, просвещающего всякого человека, грядущего в мир". В этом свете почудилось отражение люциферического сияния антихриста. Ужаснувшись хулы на Сына человеческого, впали в еще более тяжкую хулу на Духа Святого, Который дышит, где хочет, а говорит устами не только язычников, но и их ослиц.
III
Но это приводит нас к иной, не исторической уже оценке того обольщения, которое мы называем миражом антихристова добра.
Роковым последствием подобной установки, когда она приобретает власть над духом, особенно в эсхатологически напряженную эпоху, как наша, является подозрительность к добру. В средние века инквизитор разыскивал еретика-манихея по аскетической бледности лица, по отвращению к мясу, вину и крови, по воздержанию от брака и клятвы. Для доброго католика оставалось нагуливать розовые щеки, божиться на каждом шагу, пьянствовать и драться в тавернах. В наши дни русское религиозное возрождение протекало в борьбе с традициями интеллигентского староверия. Но русская интеллигенция отличалась в лучшие времена своей моральной строгостью. Она была целомудренна, великодушна, презирала маммону, имела сердце, чувствительное к человеческим страданиям, и волю, готовую на самопожертвование. Она создала ряд подвижников, выгодно отличавшихся от упадочного быта христианского, даже духовного общества. Соловьев столкнулся с ней в борьбе против толстовства. Другие имели перед глазами мучеников революции и, возненавидели всей душой их безбожную праведность, сознательно или бессознательно противопоставили ей православный имморализм. Безбожники целомудренны - нам дозволены бездны содомские, безбожники любят нищих и обездоленных - мы требуем для них розг и свинца" безбожники проповедуют братство народов - мы защищаем вечную войну, безбожники отрекаются от имения - мы хотим святого буржуазного быта, безбожники преклоняются перед наукой - мы поносим разум, безбожники проповедуют любовь - мы "святое насилие", "святую месть", "святую ненависть". Антихрист так похож на Христа, что люди, боясь обмануться - вернее, отталкиваемые ненавистью,-начинают ненавидеть самый образ Христов. Внешним показателем этого тайного отвращения является низкая оценка, если не полное неприятие, Евангелия в неохристианских кругах.
Леонтьев и Розанов были самыми яркими носителями этого православного имморализма. Соловьев остался чист от него, но ведь вся его жизнь была посвящена служению христианскому идеалу, несовместимому с Легендой об антихристе. Соловьев написал "Оправдание добра". После "Трех разговоров" никто не хочет читать этой книги. Ее находят пресной. Еще бы, зло куда интереснее добра, и ни один аскетический трактат не выдержит сравнение с Камасутрой. С присущей ему остротой и откровенностью В.В. Розанов обмолвился раз, что у всех современных христиан имеется какой-нибудь органический порок, что и отличает их от чистых и гордых безбожников. Не в том беда, что люди приходят ко Христу путем греха (путем мытаря и разбойника), а в том, что утверждают грех во Христе.
Шарахаясь от антихриста, попадают в объятия дьявола. Антихрист-то, может быть, мнимый, а дьявол уж явно подлинный: копыт не спрячешь! Мы имеем классическое определение: "Сей человекоубийца бе искони и во истине не стоит" . Всюду, где явлен пафос человекоубийства и пафос лжи (не говорю убийство и ложь, потому что они и от немощи человеческой), там мы знаем, чей это дух, каким бы именем он ни прикрывался: даже именем Христовым.
Есть проблема гораздо более мучительная для христианского сознания, чем проблема "святого, не верующего в Бога": это проблема "святого сатаны". Слова, обращенные полушутя, вернее, подсказанные духом стиля кардиналу Петру Дамиани о его великом друге папе Григории VII, намекают на какую-то страшную мистическую правду. Может ли сатана принимать образ "святого", ревнителя церкви? Является ли имя Христово или крест Его достаточным ограждением?
О многих подвижниках мы читаем,, что сатана искушал их в одеянии "ангела". Святому Мартину он предстал в образе Христовом, требуя поклонения, но не смог обмануть прозорливого. Слишком сильно запечатлелась в сердце Мартина память о ранах крестных, о терновом венце, и не поклонился он облаченному в диадему и порфиру. Сама собой напрашивается мысль о том, что созерцание диадемы, т. е. земного могущества церкви, притупляет созерцание терний и угашает дар различения духов.
Мы, православные, не можем отрешиться от ощущения соблазна сатанизмом в некоторые моменты истории католичества. Что же сказать, без ложной гордости, о нас самих. Много грехов было в русской церкви, но от сатанизма она была чиста - до сих пор. Наши грехи - грехи немощи. Ложь - от невежества, человекоубийство из трусости. От пафоса крови нас миловал Бог. Но в самые последние дни сатанизм путями, о которых сказано выше, стал заползать и в русскую церковь. Имморализм интеллигентской реакции, соприкасаясь с соблазнами непросветленного аскетизма, давал острый букет ненависти к плоти и духу человеческому. Мистицизм без любви вырождается в магию, аскетизм - в жестокосердие, само христианство в языческую религию мистерий. Как тело Христово может быть сделано орудием волхвований и кощунственных черных месс, так и имя Христово может быть знаком для религии сатаны. Внецерковному добру антихриста противополагается оцерковленное зло его отца. И во сколько раз страшнее этот соблазн!