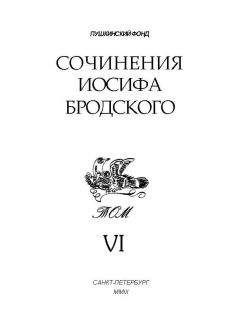В какой-то момент, еще задолго до смерти, Иосиф прописался в одном помещении с Блаженным Августином. Легко можно себе представить, как озадачен и заинтересован был Отец Церкви, когда это произошло. Августин сидел в одном конце комнаты, Иосиф сел на стул напротив и начал писать ему письмо в стихах: “Ты пиши свой “Град Божий”, а я опишу тебе вандалов у ворот Гиппона[27]. Между прочим, некоторые из них, — и тут выскакивало метрически точное разговорное выражение, — неплохие ребята”.
/Перевод Л.Лосева/
Валентина Полухина. Мичиганский университет: 1980
Валентина Полухина — профессор русской литературы (Keele University, Англия), автор книг “Joseph Brodsky: A Poet for Our Time” (1989) и “Brodsky Through the Eyes of his Contemporaries” (1992), соредактор (вместе со Львом Лосевым) книги “Brodsky's Poetics and Aesthetics” (1990), составитель (вместе с Юле Пярли) “Стоваря тропов Бродского”
Какой я замечательный преподаватель, не правда ли? — по-мальчишески обращается ко мне Иосиф после одного из своих семинаров.
— Преподаватель вы, честно говоря, никакой, — отвечаю я, воздерживаясь от комплиментов, зная, что он их не выносит, даже когда напрашивается на них.
Явление Бродского-преподавателя столь разнообразное, почти грандиозное и абсолютно харизматическое, что заслуживает большего, чем эта маленькая заметка-воспоминание. Он многое делал вопреки общепринятым методам педагогики. Он мог изменить тему в течение первых минут уже начавшегося семинара, спросив студентов: “Так, кого мы сегодня обсуждаем? Rilke's “Orpheus. Eurydice. Hermes”? Знаете, давайте лучше поговорим о цветаевском “Новогоднем”, Рильке посвященном”. Бывали изменения, не связанные никакими ассоциациями: вместо цветаевской “Попытки ревности”, которую он накануне просил студентов выучить наизусть (сам он читал по памяти все анализируемые стихи и цитировал наизусть еще из сотни авторов, им упомянутых), он предлагал “Элегию Н.Н.” Милоша. Он явно перегружал свои семинары информацией, и чем меньше студенты знали о поэте, тем больше он старался компенсировать их пробелы, делая устные сноски чуть ли не к каждому слову стихотворения, биографо-психологические, исторические, философские, но главным образом поэтические, напоминая, что в поэзии все эхо всего. Так, во время прочтения ахматовской “Сожженной тетради” следует отступление сначала о “Священной весне” Стравинского, затем о “денисьевском цикле” Тютчева, последний тут же на наших глазах переводится на английский. На случаи полного невежества студентов он тоже мог реагировать весьма своеобразно: когда при обсуждении пастернаковского “Гамлета” на школьный вопрос: “А между прочим, где находится Дания?” никто из студентов не может ответить, Иосиф почти в гневе произносит фразу, преподавателю ни при какой погоде не дозволенную: “Нация, которая не знает географии, заслуживает быть завоеванной”. Иногда он прерывал затянувшееся молчание студентов иронической шуткой, а чаще просто глубоко вздыхал, как при великом горе, и начинал рассказывать биографию поэта, как в случае с Васко Попа, историю литературы и страны поэта, указывал на истоки его образной системы, обнаруживая недюжинные познания в югославском фольклоре и примитивном искусстве вообще.
Эрудиция его была воистину устрашающая. Однажды его огорчил один из русских аспирантов: выяснилось, что тот не читал “Гильгамеша”, на что Бродский заметил: “Прежде чем заниматься исследованием поэзии, желательно прочесть...”, и тут последовал более чем часовой экскурс в историю греческой, римской и современной европейской поэзии, который он закончил словами: “Это приблизительно одна десятая того, что вам следовало бы знать, прежде чем писать о Мандельштаме или Пастернаке”. Учитывая, что в курсе были русские и польские поэты, английские и американские, знания требовались обширные. Знания не только поэзии, но и литературы вообще, а также искусства, музыки, даже архитектуры. Бродский питал почти физическую неприязнь к невежеству. Но даже умницам и отличникам бывало нелегко следовать за его мыслью, предугадать ожидаемый им ответ. Он мог задать вопрос, на который не каждый профессор-славист был способен найти ответ: “Как вы думаете, какие варианты, эстетические или стилистические, были Збигневом Хербертом отвергнуты и почему, прежде чем он окончательно остановился на том, что перед нами?” И сам, как правило, отвечал, превращая семинар в пир эрудиции. Я часто дивилась, за что мне выпало такое счастье на сем пире присутствовать. И еще больше дивилась я своей дерзости: на кого я ручку подняла и что получится из написанного мною о Бродском, когда я поставлю точку.
Дело в том, что с февраля по апрель 1980 года я посещала все семинары и лекции Бродского, более того, мне дозволено было их записывать на магнитофон. По вечерам я прослушивала записанное, выбирая информацию для своей докторской диссертации, над которой я тогда работала. Меня интересовало, кого и почему он читает и анализирует со студентами, что из сказанного им об Одене, Рильке, Милоше и других поэтах относится и к нему самому. Так, разбирая ахматовский “Шиповник цветет”, Бродский обращает внимание на то, что Ахматова ничего не говорит о самом герое стихотворения, а просто описывает предметы, его окружающие: нарцисс в хрустале, стол, зеркало, сигары синий дымок. Подобное использование метонимии в любовных стихах — излюбленный прием самого Бродского. Становилось очевидным, что он сознательно культивировал иронически-заниженную технику автопортрета в собственных стихах, отмечая подобный прием у других, Я находила в его семинарах ответы на многие вопросы, которые постеснялась бы ему адресовать или просто не догадалась бы нужным образом сформулировать.
Сейчас, прослушивая эти пленки, я обращаю внимание не только на то, что им говорится, но и на то, как это говорится: за каждой фразой — глубина мысли и душевная щедрость, каждый вопрос и замечание выражают желание стимулировать студентов к диалогу:
“Найдите в этом стихотворении код к расшифровке личности адресата. По какой фразе в стихотворении адресат может догадаться, что это сказано о нем, о его круге?” А при особенно невыносимой паузе я слышу излюбленную фразу поэта: “Говорите, что хотите, со стихотворением ничего не случится”, — фразу, которой он несколько лет спустя утешал и меня, когда я переделывала свою диссертацию в монографию о нем.
О самом процессе анализа, профессиональном, глубинном, с неожиданными поворотами мысли, довольно полное представление дают его эссе о Цветаевой, Одене, Фросте и др. Он всегда искал и находил семантическое, концептуальное или метафизическое объяснение всем формальным структурам стихотворения:
“The very shortness of this line indicates two or three things...”[28]. И требует от студентов того же: “I would like you to evaluate the. job Akhmatova does here, whether the job of depicting something burning is really masterfully done?”[29] — типичное домашнее задание Бродского студентам. Он неустанно повторял: “Когда вы пишете домашнее эссе, не упускайте этот редкий шанс учиться мыслить самостоятельно, не обкрадывайте себя, заимствуя чужие идеи. Культивируйте в себе оригинальную, эстетически развитую личность”.
Его отношение к чужому тексту было настолько доброжелательным (“It is a terrific job, better than anything I know”)[30], как будто он был написан его лучшим другом. Он пытался оценить не только все формальные достоинства стихотворения, но и проследить за сплетением всех возможных смыслов, а также очертить не видимые никому кроме него метафизические горизонты поэта. Всматриваясь и вслушиваясь в нечто, только одному ему ведомое, он объясняет нам природу потока самого языка, этой божественной стихии, в который заключены все формы бытия: все в языке от верха до низа. Язык, по Бродскому, не только диктует поэту следующую строчку, но внушает смирение и скромность. Преданность языку, служение языку, любовь к языку Бродского общеизвестны: “In poetry things are done and said not for the sake of the message but for the sake of the language itself”[31]. Эту любовь к родному языку он внушал и студентам. Читая вслух кусок из оденовского “In Praise of Limestone”[32]:
Not to lose time, not to get caught,
Not to be left behind, not, please! to resemble
The beasts who repeat themselves, or a thing like water
Or stone whose conduct can be predicted, these
Are our Common Prayer, whose greatest comfort is music
Which can be made everywhere, is invisible,
And does not smell[33] —
Бродский с тишайшей нежностью произносит: “I think it is excellent. I think it is lovely. But it is not for me to say that it is lovely. I think you should scream about it because it is terrific”[34] .
Поражала как его мера проникновения в текст другого поэта, так и его собственная этическая позиция. Это была не только преподавательская, но и просветительская деятельность Бродского. И нравственное образование. Оден дает ему повод говорить о желании поэта, скрипя пером, самоусовершенствоваться и порадовать то всевидящее око, что заглядывает к тебе в листы через плечо. По поводу строчки Одена “То hill-top temple, from appearing waters to / Conspicuous fountains”[35] из стихотворения “In Praise of Limestone” Бродский замечает: “Не equates the natural with the artificial. And it is the greatest moral lesson you can really get”[36]. А Милош и Херберт напоминают нам, что наши чувства и традиционные поэтические образы неадекватны пережитому нами опыту: “In our century, after all our experience etc., to say “rose” is to denote horror, because the rose has no relation to the reality”[37]. О том, что кроется за процессом письма: