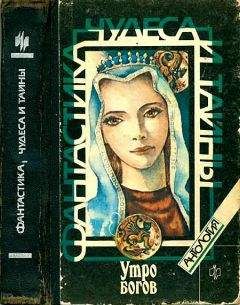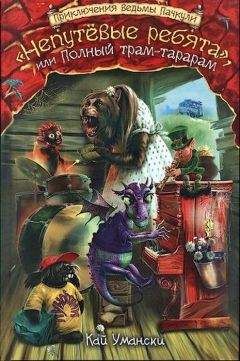Когда же, по соображениям начальства, противодесантная оборона была в основном подавлена, вперед выдвинулись минные тральщики, прокладывая коридоры для подхода основных сил; понеслись катера на воздушной подушке с группами разграждения… Наконец между рядами буев пошла первая волна высадки. Громко шлепая, откидывались на мелководье аппарели десантных кораблей. Из трюмов, неукротимо рыча, выкатывались танки с жадно протянутыми хоботами; бежали пятнистые солдаты, комариным звоном дрожало «ура»…
Учения всегда оставляют у меня двойственное чувство. С одной стороны, мне, как военному, радостны четкость и слаженность действий, например, флота и сухопутных войск; кружит голову, как шампанское, стихийная мощь современной боевой техники. Просто мальчишеский азарт охватывает, когда вижу в специальном фильме, как новенький самолет на бреющем выпахивает бомбами и ракетами котлован, куда можно было бы спрятать квартал небоскребов.
Вместе с тем сразу после подобных восторгов приходит стыд, вернее, чувство возмущения самим собой: «Господи, да чему же ты радуешься, вандал?! Тому, что, как говаривал Дон Кихот Ламанчский, благодаря пороху «рука подлого труса может лишить жизни доблестного кабальеро»?..»
Нет, право, я мало подхожу для роли офицера, хотя и говорят, что справляюсь с ней неплохо. Откуда эта раздвоенность? Впрочем, я знаю, откуда. Воинский пыл, любовь к парадам — от покойника отца, портрет коего в форме каперанга, с орденами и кортиком, увеличенный до метровой крупности из маленького фото, нависал над всем моим детством. Боже мой, каким тираном в доме, каким требовательным идолом становится погибший отец! И какой фанатичной служительницей его культа делается вдова, если не решит вторично выйти замуж!.. Разве имел я право стать «не таким, как папа»? Нахимовского было не миновать, словно выпадения молочных зубов. Единственное, в чем мама не могла управлять мною, было чтение. Более того, папина библиотека относилась к главным реликвиям нашей домашней «церкви», и мои штудии в книжных шкафах только поощрялись — лишь бы не давал книги товарищам и не читал за едой… Бедная мама! Право же, она не догадывалась, что меня куда более согреют и наставят Шекспир, Достоевский, Анатоль Франс, чем «Фрегат «Паллада», «Цусима», и все военно-морские героические мемуары.
А почему, собственно, мне вспомнились сейчас наши осенние забавы, после которых на изрядном куске побережья до сих пор трава не растет? Да просто подумал в очередной раз об Арине… как она там, что делает, красавица моя, где ходит на своих длинных ногах, покуда я вспарываю пустое море во время очередного патрулирования? Арина первая сообщила мне, что при обстреле был разрушен участок, где, по предположениям их экспедиции, находилась окраина греческого полиса. Не успели, не сумели довести до адмиральского сведения; а может быть, и успели, и сумели, да не пожелал его превосходительство менять план учений из-за каких-то допотопных кирпичей и битых черепков… Чуть не плакала тогда Арина. Я ей верил, конечно, но все же решил попытать Агафонова. Комбриг ко мне благоволил и позволял вести с собой при случае вполне «гражданские» беседы.
Попав — по другому, разумеется, делу — к нему в кабинет, я упомянул о тревогах археологов. И, честно говоря, не был особенно удивлен, когда Иван Савельевич добродушно сказал, вылавливая чаинки ложечкой из стакана:
— Ну, а если даже так? Если перекапустили ракетчики древних греков? Что? Пары сережек золотых госбанк недосчитается? При нашей-то бесхозяйственности, стоит ли переживать?..
— Да разве ж дело только в сережках, Иван Савельич?..
— Знаю, знаю! — кивнул Агафонов. Я, слушая его, занимался тем же, чем и все посетители этого кабинета, а именно — ласкал пальцами тестикулы бронзового быка, украшавшего чернильный прибор. От частого глаженья бычьи яички блестели, точно серебряные. — Знаю, что ты скажешь. Духовное наследие, корни и все такое. Слагаемые нашей культуры. Я академика Лихачева недавно по телевизору слушал, очень толково говорит. Согласен. И даже щемит что-то в душе. Но, по большому счету… Помнишь, ты мне рассказывал, как твои любимые греки латали крепостные стены? Могильными плитами со старых кладбищ. А уж какой культурный был народ! Не надо будет укреплять оборону, каждую бусинку беречь станем, каждый ваш ломаный горшок…
Вот тут он меня достал, Агафонов. Обычно я сдерживаюсь в разговоре с ним — все-таки командир, хотя и отношения у нас не только служебные, но в этот раз сорвался на откровенность.
— А когда, по-вашему, не надо будет укреплять оборону?
— Ну, это мальчишке ясно. Когда на Западе разоружатся.
— Они того же самого ждут от нас.
— Ничего, слава богу, поняли друг друга, не то, что раньше. Афганскую глупость кончили, ракеты демонтируем, армию сокращаем, выводим из других стран. Так что, может, и не за горами то время…
— За горами, Иван Савельевич! — твердо сказал я. — Даже если атомные арсеналы свернем полностью, чего в ближайшие годы не предвидится, найдем другой повод снова не доверять «империалистам» и держать страну в напряжении.
— Это еще почему?
— А потому, что целость государства можно сберечь только двумя способами: либо развитой экономикой, либо сильной центральной властью. Экономика наша, сами знаете, на папуасском уровне. Сильная же власть требует постоянной лихорадки, особого положения в стране. А для этого призрак угрозы как нельзя более подходит, и мы с ним, родным, не расстанемся.
— Может, я и старовер в политике, — несколько обиженно сказал Агафонов и громко прихлебнул чай. — Но без сильной власти, брат, и экономику твою не создашь. Вот был я однажды в Индии, когда наш отряд с визитом дружбы заходил в Мадрас… Жители тамошние как говорят об англичанах?! Уважительно! Зря вы их, говорят, называете колонизаторами: все, что у нас есть лучшего, оставили они — и заводы, и сервис, и парламентскую систему… А ведь как внедряли? Пушками. Сипаев к стволу привязывали. Одно слово, Британская империя!..
Я окончательно решил не щадить комбрига.
— Британская империя, Иван Савельевич, мир покоряла не столько пушками — любой военной силе можно дать отпор, — сколько высокой технологией. Слаборазвитые народы на опыте убеждались, что жить по-английски лучше, богаче… Еще раньше то же самое показал Рим. Власть его держалась не на мечах, а на прекрасных дорогах, развитом земледелии, справедливых законах для всех — римлян и неримлян…
— Много воды утекло…
— Стало быть?..
— Думать пора.
— Получится ли?
— Нам и решать.
— По тем образцам?..
— Сейчас это к нам не относится, — хмуро сказал Агафонов. — У нас другой принцип. Сильные республики — значит, сильная федерация. И не иначе.
— Дай Бог, конечно… Я бы рад оказаться неправым. Но все-таки, по-моему, самой лучшей человеческой выдумкой в том, что касается общественного устройства, является полис. Да, смейтесь сколько хотите — греческий полис, город-государство, где живет не более нескольких тысяч граждан, со своими ремеслами и торговлей.
— Своими рабами, — ввернул Агафонов.
— Ну, мы же не обязаны на нынешнем уровне техники копировать древнее общество в деталях! Главное — принцип. Полная децентрализация. Конец этих гигантских, жестоких, неповоротливых динозавров — государств…
Он хохотнул, почувствовав себя уверенней, пальцами от горла наружу распушил бороду.
— Полис не может быть вечным, милый мой, не может быть вечным… Раздели любое большое царство на малые: обязательно одно среди них окажется более жадным, чем соседи, начнет захватывать чужие земли — и, глядишь, опять сидит на троне великий государь. Боспорская монархия тоже начиналась с отдельных городов. Так уж устроен человек, ему всегда всего мало — земель, рабов, золота…
— Значит, ты считаешь тиранию неизбежной? Другого пути для людей нет? А как же демократия в Афинах, да и в нашем родном городе? Она тоже на время?..
— Тоже, Котис… Демократия! — Ликон пуще приосанился, в подобном споре он чувствовал себя неуязвимым. — Ее никогда не было и быть не может, это вымысел неудачников, рыночных горлопанов!.. Как ты там ни называй Перикла — стратегом, автократором, народным избранником, — он все равно был монархом, повелителем Афин, ибо народу нужен кто-то один, кому можно поклоняться или на кого можно свалить все беды. При умном правителе, окруженном хорошими советниками, государство процветает; при глупом и корыстном — хиреет. Сами же граждане, никем не управляемые, способны лишь сводить счеты друг с другом да драться за лишний кусок для своих детей, в ущерб чужим… Ты говоришь, демократия процветает в нашем городе? Ну да, конечно, экклезия собирается, булевты говорят мудрые речи. А попробовал бы кто-нибудь из них сказать словечко против Парфенокла с его кораблями, с его пшеницей, которую он продает во все концы света! Благодетель, кормилец, отец города — вот, декрет в его честь, выбитый на белом мраморе, высится посреди агоры! Кто против Парфенокла? То-то… Меч или золото в руках у монарха, зовется ли он архонтом или купцом, философом или менялой-трапезитом — суть неизменна: народ править не может, у страны всегда один хозяин!..