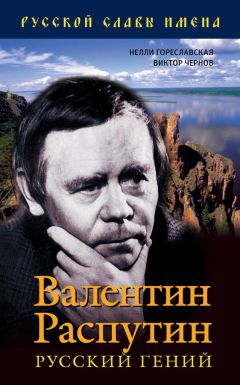Жена моя чувствовала некоторое смущение перед новыми хозяевами, словно бы это она заманивает дога обратно и приносит людям лишние тягости; ведь им и так-то тошнехонько со стройкою, столько денег убабахано, зарыто в землю, да еще стережись, как бы не коснулся чужой темный глаз и злой умысел, — а после жди худа; ведь все пока так временно, так ненадежно, так случайно, что и сам-то прибыток кажется марой и кудесами. И прежде, братцы, бывал доход, его прятали в чулок, боялись показать достаток, чтобы не выбиться лицом из прочих; но разве то были день-ги-и! Да перед нынешними пачками «капусты» это просто карманная мелочевка. Для нынешних капитальцев, добытых хитростью, наглостью, изворотливостью и знакомствами, не хватит никаких капроновых чулков и бабушкиных носков, траченных молью; и даже иностранные банки не дают достаточной уверенности, что деньги не лопнут. Вот грехи-то тяжкие, как тут Бога не вспомнишь! — и нувориши невольно потянулись в церковь, поближе к алтарю, чтобы, отстегнув копейку и поставя свечу, заполучить у Господа защиты; говорят-де, Бог всесилен, вон сколько народу уверовали, и не все же средь богомольников пропащие и бьют лоб по глупости, но есть среди них и себе на уме. Ведь говорят же в народе: "Брось милостыню назад, она очутится попереди". У милостыньки есть смысл, свое предназначение; это как бы охранная грамота, долгосрочный вексель, который когда-нибудь будет погашен ответным добром. Добро на добро. Но на Бога надейся и сам не плошай. Оказалось, что самое лучшее помещение деньгам в стройке: виллу можно отписать, можно завещать, провести по дарственной; ее, как частную собственность, труднее в новых условиях оттяпать даже через суд, ибо тогда начнется прямое светопреставление безо всяких революций и погромов; в круговой поруке, у кого пальцы в пушку, оказались повязаны миллионы начальствующих, кто успели куснуть сладкого, лизнуть сливок из чужой мисы. Но русский народ в своей простоте, безответности чаще грезит Богом и все суды спроваживает на Его плечи, ибо с сильным не борись, а с богатым не судись: Бог накажет, в Его памятливой книжке на каждого хранится своя гроза, страшная месть за слезы никого не минует, как ни заграждайтесь высокими стенами, везде настигнет скорый правеж на небесах. Ох, как утешлива, братцы, эта мысль, какое она дает успокоение и укрощает самую темную зависть; ох, ну и отмстится вам, грешные и бездушные! Хоть сутками торчите у крылоса, хоть бы ставьте восковые свечи с оглоблю толщиною — а расправа-то туточки, ха-ха!
Ну и вы, мудрецы-застольники, сочиняющие новую русскую идею, думаете, что это чувство простеца-человека опойно и бессмысленно и не даст никакого итога, но лишь усыпляет душу и пускает ее в леность? Ну как сказать и на каких взвесить весах, чтобы понять ее истинную цену? Коли нация выросла и сохранилась с подобным чувством в груди, не рассыпалась, не поддалась под чужое иго на веки вечные, значит в нем есть своя сила и неподдельная правда, повязанная, скрепленная с небесами…
На всю страну творилось неслыханное преступление, и никто не решался его остановить, словно бы народ утратил инстинкт самосохранения; но ведь то чувство страха, что овладело русскими, вроде бы и было природным охранительным чувством; на что-то действенное надо было решиться, чтобы не рассыпаться в пыль, но недоставало знания для верного дела. Народ с невиданным цинизмом ограбили, раздели и разули, залезли в каждый русский дом и забрали последнее средь бела дня, нагло надсмеявшись, и несчастные смиренно согнули выю и признали разбой за разумную необходимость. Кто-то на награбленное строил виллы с плавательными бассейнами и кортами, с золотыми унитазами и дверными ручками, выписывал италийский мрамор и испанские розовые фаянсы, скупал картины и бриллианты, другие же, кто в поте лица устраивал государство, нынче шли в больницу со своими шприцами и скудной едою, замерзали в убогих панельных домах, рылись на помойках иль стояли в метро с протянутой рукою. В первую революцию ограбили богатых и умных, нынче же наглые и хитрые ограбили всех, но особенно бедных. Вот и Переделкино превратилось в неслыханную новостройку, сотку болотистой, поросшей дурниною земли вдруг превратили в настоящее сокровище, оценив ее в двести тысяч рублей, и только потому так возвеличили, что в этих подмосковных борах жили советские писатели, нынче оплеванные и оболганные; оказывается, даже на этих клеветах, если их хорошо прокрутить биржевым спекулянтам, можно было крупно нажиться. И снова получилось по той старинной русской поговорке: "Его обокрали, да его же и судят". Помню, в советские времена писатели, живущие в Доме творчества, любили прохаживаться по знаменитым улицам городка, с плохо скрываемой завистью показывая любопытствующим владения именитых; де, это дом Георгия Маркова, это Сартакова, Чаковского, Катаева и Чуковского, Вознесенского и Евтушенко, Солоухина и Можаева. Минуло не так уж и много лет, но стерлись из кованого навечно синодика великих имен Марков и Сартаков, Чаковский и Можаев, Катаев и Соболев; новое ЦК демократ-либералов и неотроцкистов, для виду воюя с прежними партийными цензорами, тайно перевербовали их в свою артель и создали новый именник, куда удивительным образом перескочили певцы политбюро Евтушенко и Войнович, Вознесенский и Ахмадулина; но их подверстали уже в откалиброванный с Европою новый список во главе с Окуджавою, Пастернаком, Высоцким и Чуковским. Вроде бы сменились идеалы, стерли иль побили прежние пластинки с заигранной музыкою, но эти имена, как бы выбитые зубилом в гранитной глыбе, не могла запорошить никакая вязкая пыль склизких и бездушных последних времен. Но нас уверяют с искренней жалостливой слезою в очах, де с временем не посудишься, оно расставляет все по своим местам и дает единственно верную оценку; де, время — это прокурор самого Господа Бога; де, восковые свечи и на порывистом ветру не гаснут, но в грядущих потемках горят еще пуще. Но все эти заклинания для диких племен, для кого манная каша слаже небесных блаженств…
Но, братцы, нельзя путать долготерпение с покорством. По-моему, русский народ самый непокорливый в Европе; он непрерывно тысячи лет с завидным упорством, как бы пресекая всякие мечты о земном счастии, отыскивает себя заблудшего, находит и снова теряет дорогу, и опять торит путик через неведомое, лишь внешне смиряясь с обстоятельствами, но незаметно перекраивая их под свой, пока смутный замысел. Долготерпение — это разумное, выношенное в сердце и сверенное с душою желание сохраниться в пору самого жестокого замора; это терпение племени скрепленного меж собою не сытью, но туманными мечтаниями, которые на поверку оказываются куда надежнее земных благ. И не надо его путать с угодливостью и покорливостью; долготерпение лишь внешне податливо, оно обманчиво своей простотою чувств, когда кажется, что из поверженного в спячку народа можно веревки вить. Покорливость же безответна, в сердцевине ее нет мечтательности, взгляд покорливого уронен к земле, себе под ноги, ему трудно оторваться от болотной кочки к пуховому небесному облачку; покорный ищет укрепы в хозяине, долготерпеливый — в воспоминаниях, ибо все когда-то вернется на свои круги, ложь покроется правдою и безответные обнадежатся от своих трудов. Если бы русские были покорливы, как французы иль датчане, что могут воевать лишь за кусочек хлеба, вырывая его из пасти господина, то они до сей бы поры сидели под монголом и литвою, поляком и французом, татарвою иль немцем; увы, эти морские безжалостные валы накатывались с грохотом на русский берег, оставляя после себя лишь плесень и пену и мелких невидимых гадов, что заселяются в трупье и всякой падали, что неизбежно оcедает после штормов. Из этой же пены вышли на Русь тыщи паучков-крестоватиков, чтобы выткать сети на русскую силу. Но стоит ли унывать? и не напрасны ли стенанья со всех сторон, одни от искреннего горя за русский народ, иные, притворные, от скрытого торжества? Да, мы слегка обескуражены и греемся пока у костра воспоминаний, выискивая в том тепле укрепы и горяча кровь; но время не проистекает зря, как уверяют фальшивые доброхоты, стремясь выбить русских из седла и толкая меж тем вперед, чтобы догнать кого-то; давая ноготок диаволу прогресса, легко и не только руку потерять… Нынче русские вылепливают себе новое обличье, как уже не раз случалось прежде за тысячи лет, мы плохо помним себя нынешних и вовсе не знаем себя минувших; но как знать, быть может мы возвращаемся к себе прежним, чтобы начать новый поход, в предчувствии мировой кончины…
* * *
Есть особая порода собачьих поклонников; они прикрываются своим резоном, де, собака верна до гроба, она не предаст — и тут же свою мысль заверят десятками фольклорных слезливых историй, как верный псишко подох, завывая, на могиле своего хозяина. Безусловно, у любой привязанности есть особое магнетическое свойство, и всякая скотинешка обладает им в большей или меньшей степени; природа этого чувства совершенно не изучена, она подпадает под сорт особых, недоступных человеку тайн, и оттого, что мир бессловесных существ нам недоступен, мы и наделяем зверей человеческими чертами характера. Особенно страдают этой легкомысленностью писатели, ибо они стремятся все живое подверстать под свою натуру…