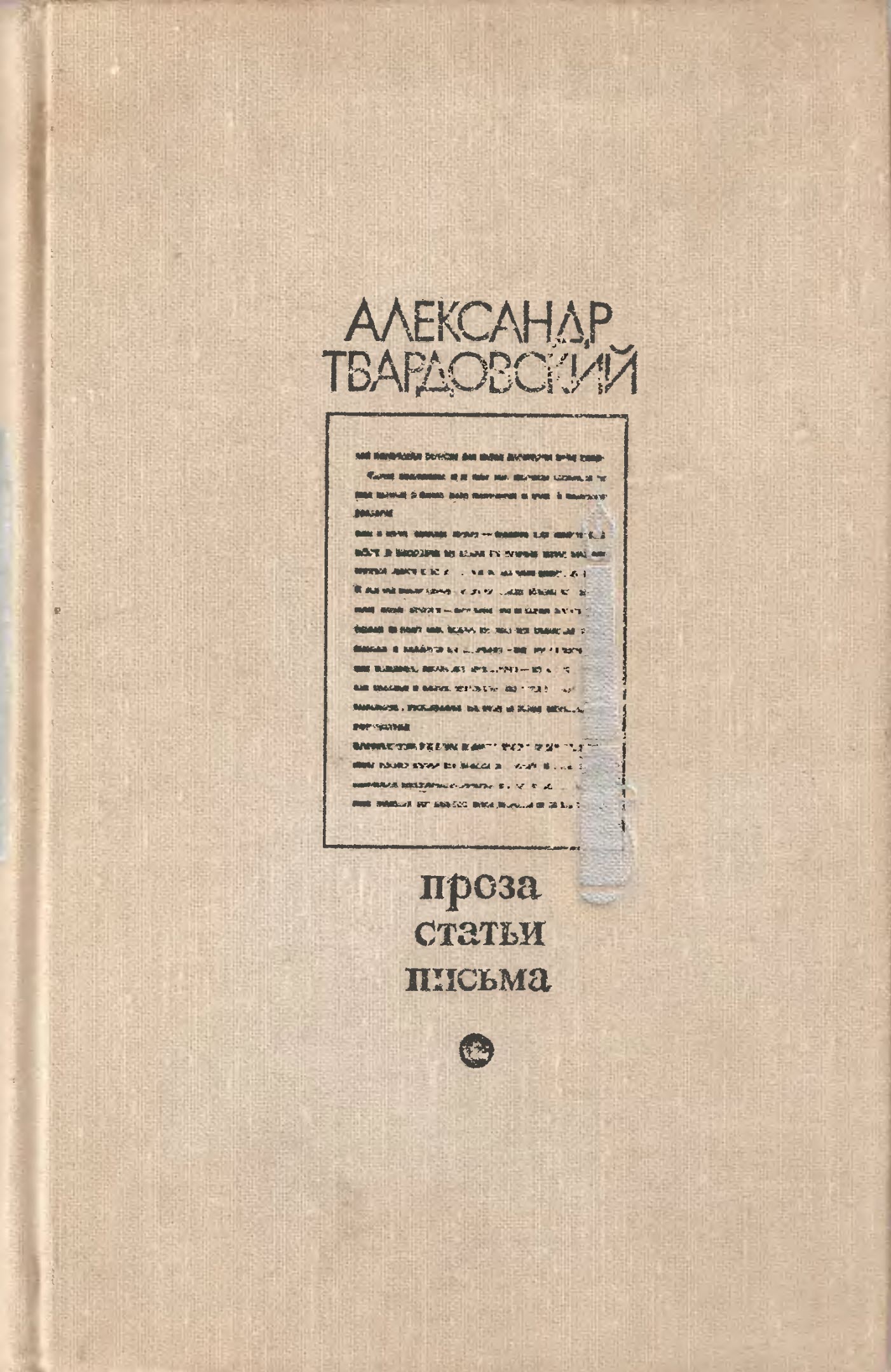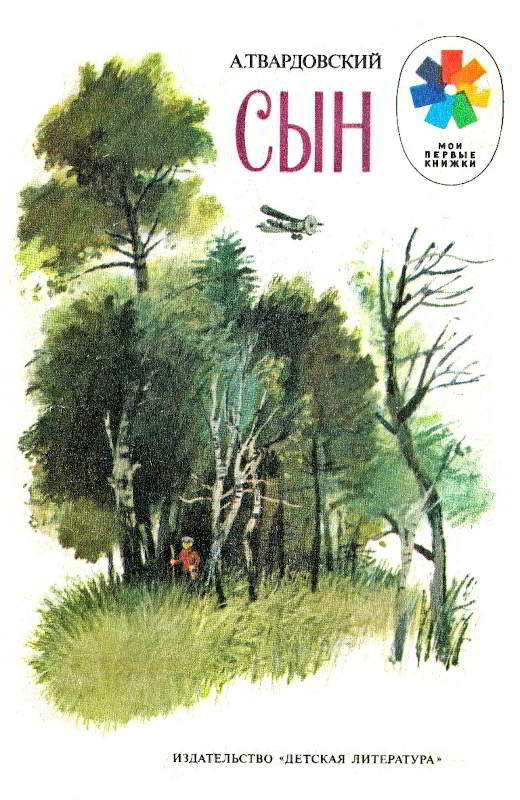утренний дым возрожденного к жизни города поднимается над новыми и старыми, полуразрушенными и полностью или частично восстановленными степами зданий. И такое чувство, как будто боишься узнать о чем-либо очень печальном или ждешь большой радости, которая вот-вот должна наступить. Скорее, скорее доехать до Никольских ворот, свернуть в переулок, от которого осталось одно название «Никольский», подъехать к дому, одному из немногих уцелевших при немцах, еще издали увидеть за стеклами окна лицо, внезапно обеспокоенное радостной и тревожной догадкой…
Въезжая в Смоленск, я ощущал себя и тем, кто родился в Смоленске, из Смоленска ушел на войну и кому еще предстоит вернуться туда. Но нельзя было забыть и тех друзей моего любимого города, которые по месторождению так далеки от него и так много сделали для его освобождения и восстановления.
По внешним признакам город еще многим напоминает о днях нашествия, но приходится удивляться тому, что за один год так много сделано для его восстановления. Вода течет из кранов, дети играют на площадке возле школьного здания, которое я видел год назад в печальных дымах затухающего пожара. В городе, просто сказать, много людей — признак жизни. И пока далеко от него на западе идет война, гремят и ухают пушки, он, мой город, принаряжается и убирается, сколько можно и как только можно, к большому своему празднику — к годовщине освобождения от оккупантов.
Родина-мать! Чувство гордости и радости охватывает душу при мысли о твоем величии и силе. Только год назад новостью было освобождение Смоленска, а ныне в каких далеких краях твои войска свершают славный поход, творят правое дело освобождения людей от насилия нелюдей, выродков!
Слава тебе, советская Родина-мать! Слава тому, кому ты доверила свою судьбу и кто ведет тебя к счастью!
Обычная картина в деревнях и селах, освобожденных от немцев: все палисаднички, загородки, скамеечки, столики сделаны из белых, не очищенных от коры березовых кругляшей толщиной в оглоблю. Такими же кругляшами отделаны входы в офицерские блиндажи; из них же построены назойливо аккуратные и мелочно затейливые беседки, киоски, решетки, лесенки, перильца, будочки. Береза, везде береза!
Правда, мне случилось видеть целый жилой флигель с верандой и мезонином, с окнами на две стороны, сплошь облицованный ровно, один к одному, пригнанными квадратами из коры вековых лип. Для этого была погублена целая липовая аллея, и флигель выглядел как четырехугольный, чудовищный и нелепый пень, увенчанный островерхой крышей. Немцу-генералу, который, по рассказам, жил во флигеле, нравился, видимо, темно-серый, очень мрачный тон коры, утратившей свою естественную мягкость, свою живую древесную теплоту. Но это редкость. Повсеместно — береза.
И странная штука: вид этого привычного и любимого дерева, употребленного с такой тщательностью и выбором на украшение земли, решительно чужд русскому пейзажу. Береза раздражает тебя не только тем, что из нее немец мастерит свою, чуждую русскому глазу, симметричную и мелочно затейливую городню, что он монтирует из березы отвратительный знак свастики, но и тем, что это просто не идет, не принято.
А не принято и не идет прежде всего потому, что береза под корой очень непрочна, сгнивает в одно лето. От-того-то крестьянин никогда кола березового не вобьет в землю, не соскоблив коры. Изгородь не на одно лето го* родят. Здоровый практический смысл человека, живущего на своей земле, заботящегося о долговечности того, что он строит на ней, — этот смысл в первую очередь и определяет его отношение к красоте материала. Русский человек очень любит это родное дерево, садит его у самого жилья, издавна в дни старинных празднеств украшает им улицы селений, во множестве своих задушевных песен поет о «белой березоньке». Он охотно употребляет березу и бересту на всевозможные поделки. Но огораживать садик березовыми жердями под корой, украшать избу наличниками из неокоренных березовых палок — нет, этого не делали ни отцы, ни прадеды, не принято это было и в самые последние времена, принесшие русской деревне, ее облику столько изменений.
Но в том ли все дело, что береза под корой недолговечна? Зато, может быть, она действительно красива, подобранная и пригнанная кругляш к кругляшу в этих легких, полуигрушечных сооружениях, что немцы оставляли на нашей земле, покидая свои позиции? Может быть, это и у нас привьется?
Нет, суть не только в прочности материала, не только в здравом расчете на долговечность, айв самой красоте. Это начинаешь понимать особенно ясно, когда видишь немецкие кладбища, оформленные также под березу. Ограда — из березы, кресты — из березы, к крестам прибиты косые срезы от толстых березовых кряжей — это для надписи. Черные зазоры коры на белой бересте, черные надписи на белом — все это действительно создает своеобразный кладбищенский тон и настроение. Но можно еще сказать, что это сочетание белого с черным и несолидно как-то, не столь торжественно, как требовалось бы в данном случае. В этом, сочетании есть что-то сорочье.
А главное, конечно, в мертвенности. Мертвенность — вот сущее впечатление всего, что немец нагородил из березы. Чудное народное дерево безвкусно и кощунственно употреблено чужеземцем на украшение захваченной им земли. И молочная белизна смоленской березы стала мертвенной белизной, чуждой нашему вкусу. А немецкое вторжение и в этом, в затейливых березовых столбиках и жердочках, нашло себе символ временности, непрочности, могилы.
Где-то я читал или кто-то мне рассказывал об одном богатом немце, построившем себе в Восточной Пруссии, на побережье, дачу-дом в русском стиле. Дом был рубленный из бревен и крытый соломенной крышей «под гребенку». Изысканному вкусу владельца более всего дорог был светло-золотистый цвет соломенной кровли. Чтобы сохранить его, крышу заново перекрывали ежегодно, хотя известно, что соломенная крыша может служить десятки лет.
Чисто немецкая, какая-то невкусная и раздражающая причуда, родственная пристрастию немцев к русской березе.
Война так велика, если взять хоть по одной линии, от столицы до восточно-прусской границы, так велика от одного своего края до другого, от одного края до середины и от середины до другого края, так много уже вобрала в себя погоды, природы, времен года и стольким-стольким не дала дойти даже до середины своей, что и мы, живые, вряд ли еще сознаем, как бесповоротно мы постарели от нее, как много ушло жизни, втоптано в эти годы. И о многом (не самом ли главном?) уже нельзя начать речь, не сказав вслух или мысленно: это было, когда война еще шла на нашей земле.
Живем в русской деревушке вблизи железнодорожной станции, на путях которой