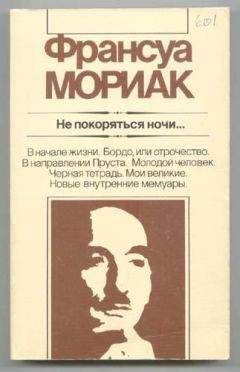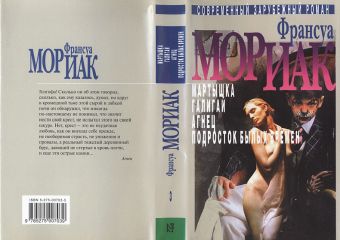2 Там же, с. 96. (Пер. М. Ромм.)
3 Там же, с. 101—102. (Пер. М. Ромм.)
моряки, подымающие якорь, чтобы отплыть с наступающим приливом. Ни облаков, ни ветра. Река белая под луной, в тени черная. Бабочки вьются вокруг моих свечей. И запахи ночи доносятся до меня через раскрытые окна. А ты, — ты спишь?» 1 Однако уже через несколько строчек он предостерегает: «Ты полагала, что я молод, а я стар».
Флобер даже сам не представлял, насколько он прав: только что от него отдалился человек, унесший с собой все, что еще оставалось от молодости, — Альфред Ле Пуатвен женился. Гюстав твердит Луизе Коле: «О, лучше люби искусство, чем меня! Обожай Идею...» 2 Но в дружбе он и не помышлял отграничивать искусство или идею от взаимной приязни. Преимущество дружбы в том и состоит, что она укрепляется совместным чтением, совместными духовными исканиями, даже скукой вдвоем. Искусство, объединявшее друзей, разделило влюбленных. Должно быть, красивое лицо Луизы Коле омрачилось, когда она читала такое вот признание: «Самыми большими событиями в моей жизни были несколько мыслей, чтение, несколько солнечных закатов на берегу моря в Трувиле и пяти-шестичасовые разговоры с другом, который теперь женат и потерян для меня» 3. Он был потерян, но еще жив. Альфред Ле Пуатвен умер в ночь с 3 на 4 апреля 1848 года. 7 апреля Флобер послал описание его агонии, смерти и похорон Максиму Дю Кану *. Эта страничка многого стоит! Во всем наследии Флобера вряд ли найдется еще одна, столь же великолепная.
Молодость Ле Пуатвена задушить было куда труднее, чем флоберовскую: ее хотя бы отчасти защищала природа, которой он, пантеист, поклонялся. В один из последних дней, глядя, как в открытое окошко льется солнечный свет, он восклицает: «Закройте, слишком красиво, слишком красиво!» 4 Закрылось окно и для Флобера.
1 Там же, с. 108—109. (Пер. М. Ромм.)
2 Там же, с. 120. (Пер. М. Ромм.)
3 Там же, с. 122. (Пер. М. Ромм.)
4 Там же, с. 139. (Пер. М. Ромм.)
Правда, прежде чем окончательно стать затворником, он сделал последнюю и блистательную вылазку: совершил путешествие на Восток. Однако все там наводило на него скуку; словно старик, он весь в прошлом. Не то чтобы он очерствел — в этом разубеждают нас его письма к матери. До чего же трогателен у высокорослого молодого человека тон ласкового ребенка, когда он обращается к ней «моя бедняжка», «милая старушка», «милая моя бедняжка»! В этой обширной корреспонденции потрясает затаенный поток нежности, детской беззащитности. К тем же выражениям он вернется и в старости, забыв, что уже писал их сорока годами раньше; но ведь человеческое сердце мало меняется, в нем нет переменчивых течений, а есть лишь вихри и водовороты перед скрытыми преградами. Прочитав исполненные нежности слова, обращенные к матери в октябре 1849 года накануне отъезда в Египет: «Милая моя бедная старушка, сейчас ты, наверно, спишь. Как ты, должно быть, плакала сегодня вечером, и я плакал тоже... О, как я расцелую тебя, моя бедняжка, когда вернусь!» — стоит обратиться к письму, которое Флобер почти через три десятка лет, в 1876 году, написал племяннице (его мать давно уже умерла): «Куда делись, куда ты задевала шаль и садовую шляпку бедной мамы? Я люблю иногда прикоснуться к ним, бросить взгляд...» И в следующем письме: «Я перепутал. Я искал вовсе не шаль, а старый зеленый веер, который был у мамы, когда мы путешествовали по Италии...» Таковы были грустные тайные радости этого грубого, бесчувственного чудовища, которым так возмущался Гонкур.
Во время этой последней поездки, последнего побега на Восток, предшествовавшего пожизненному затворничеству в святилище идола, путешественник не столько наслаждается молодостью, сколько вспоминает отошедшее отрочество. Когда он на рассвете уходит из дома куртизанки Рушук-Ханем; перед ним стоят не картины только что изведанных наслаждений, а воспоминания об утре после бала у маркиза де Поммерё: «Я совсем не ложился и совершил одинокую утреннюю прогулку на лодке по пруду, в костюме школьника. Лебеди следили за мной, листья кустарников падали на воду. Несколько дней оставалось до отъезда, мне минуло пятнадцать лет» 1.
1 Там же, с. 165. (Пер. Б. Грифцова.).
После того рассвета пришла заря, потом настало утро, и вот наступило время заточить себя до конца жизни, чтобы выбирать слова, пробовать их на слух, охотиться на созвучия. И тут мы имеем дело не просто со склонностью, а со всепожирающим даром. Даже если бы он не заболел, эта великая страсть так или иначе заставила бы его отринуть все, препятствующее безумной жажде писать: женщин, семью, дела. Отождествив себя со своим трудом, Флобер отверг разом и людей и бога. Все это приобрело настолько чудовищный характер, что Флобер сам назвал себя «человек-перо»: он жил ради пера, благодаря перу, только им одним. Это выражение 1852 года, но и в конце жизни Флобер писал примерно то же самое. В этом смысле он, покорный неизменному уставу, с юных лет до старости оставался невероятно самодовлеющим.
Отныне в его жизни ничто не изменится. Вот он в Круассе, запершись у себя в кабинете, склонился над круглым одноногим столиком, обтянутым зеленым сукном, а за окнами сырой ветер треплет высокую магнолию. В каждом слове смысл целого письма, каждая фраза — провал или триумф. Он не скрывает чисто мистический характер своей концепции искусства: «Жизнь я веду суровую, лишенную всякой внешней радости, и единственной поддержкой мне служит постоянное внутреннее бушевание, которое никогда не прекращается, но временами стенает от бессилия. Я люблю свою работу неистовой и извращенной любовью, как аскет власяницу, царапающую ему тело. По временам, когда я чувствую себя опустошенным, когда выражение не дается мне, когда, исписав длинный ряд страниц, убеждаюсь, что не создал ни единой фразы, я бросаюсь на диван и лежу отупелый, увязая в душевной тоске» 1. Крайне важный текст: он раскрывает величие и ничтожность Флобера. Но прежде чем критиковать, писатель наших дней должен совершить акт покаяния: поспешная и топорная работа, реклама, издательская кабала, спекуляция на коллекционных тиражах, все, что ныне является позором литературной жизни, обязывает нас говорить о Флобере, даже если мы его не любим, только с пиететом и почтительностью. Исключительное требует исключительного подхода, и к обожествлению искусства должно относиться снисходительней, нежели к его эксплуатации.
И тем не менее вина Флобера велика. Искусство подменяет бога и в силу этого вступает на путь, который куда опаснее, чем путь, где его ждет осмеяние и презрение. Недаром же, описывая свою жизнь, отданную литературному труду, Флобер прибегает к мистическому языку. Он вполне сознательно захватывает место предвечного существа, разумеется не для себя, но для своего продолжения, своих произведений, для «Госпожи Бовари» и «Саламбо», своего восторга и своей муки. Ему ведом мучительный подвиг святого, но еще лучше — наслаждение, имитирующее блаженство христианина. Флобер тоже проливал, подобно Паскалю, радостные слезы: «...мне пришлось встать и пойти за носовым платком — у меня по лицу текли слезы. Я сам умилялся над тем, что писал; я испытывал сладостное волнение и от своей идеи, и от фразы, передавшей эту идею, и от удовлетворения, что нашел самую фразу» 2. Флобер здесь вынуждает нас вспомнить радости, о которых святая Тереса * писала, что «они заставляют струиться мучительные слезы, словно их породила некая страсть...» И чтобы не оставить никакого сомнения относительно произведенного им полного ниспровержения ценностей, далее Флобер пишет о бесслезных эмоциях, среди которых «встречаются и самые возвышенные», и утверждает, будто духовной красотой они превосходят добродетель. Доходит до того, что он имитирует предельные состояния мистиков; как святые доводили безумие самоотрешенности до такой степени, что даже не молились небесам, так и он обретает «то возвышенное состояние души, при котором слава — ничто и самое счастье — ненужно» 3. Годами мучаясь над книгой, он вдруг обнаруживает, что утратил к ней интерес, и рукопись тут же отправляется к издателю. Его божество требует безучастности к любым чувственным наслаждениям, требует абсолютной отрешенности. Вся судьба Флобера укладывается в такую вот имитацию мистического подвига.
1 Там же, с. 240. (Пер. Т. Ириновой.)
2 Там же, с. 240. (Пер. Т. Ириновой.)
3 Там же, с. 241. (Пер. Т. Ириновой.)
Разве не подчиняет он эстетике метафизику, мораль, науку? В своем унылом кабинете в Круассе Флобер растрачивает дни на чтение тысяч томов. Он глотает книги по философии, религии, истории, механике, прикладным наукам, но не затем, чтобы что-то узнать, постичь крупицу истины в той или иной области, а чтобы превратить этот бесконечный набор сведений в кошмары и ложные идеи, которыми он начинит мозги святого Антония, Бувара и Пекюше! Ему даже в голову не приходит проверить, не блеснет ли среди трофеев, добытых при чтении, среди этого нестоящего хлама, бесценная жемчужина. Усилия многих веков сводятся им к неимоверным карикатурам. Ни одна идея, ни одно открытие не являются ценностью в себе. А нелепое сваливание в кучу всего человеческого опыта ради создания парочки кривляющихся субъектов порой просто бесит!