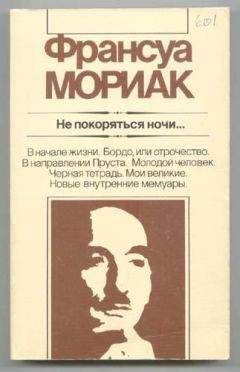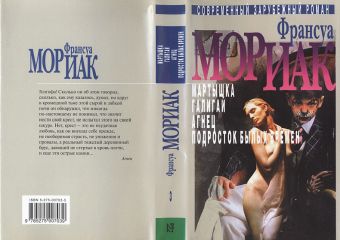Ему остается, даже не сознавая того, искать в человеческом божественную печать. Его ненависть к буржуа, ненависть, которую внушает ему Беранже, возникла главным образом из-за самодовольства, которое так и прет из представителей среднего класса, а также из-за того, что им легко и удобно обходиться без бога. «Величину души можно измерять страданием, — пишет он, — подобно тому, как глубину реки определяют по скорости течения». Благоденствующие буржуа на ионвильской Сельскохозяйственной выставке * раздражают в нем обездоленного христианина, у которого отняли его господа. Одни только поэты, философы и ученые, то есть те, кто постигает реальность, и те, кто отображает ее, кажутся ему логичными существами. От них он ждет полного отречения и спокойного отчаяния. Он не допускает, что у них может быть право устраиваться в жизни, и Максим Дю Кан теряет его дружбу, едва начинает метить на высокий пост. Большие деньги, которые зарабатывают его младшие собратья Золя и Доде, возможно, и вызывают у Флобера некоторое чувство ревности, но в основном возмущают. Нельзя быть счастливым в соответствии с мерками общества, и художник не имеет права «преуспевать».
Флобер поистине прожил жизнь в школе смерти. С раннего детства смерть выработала в нем безразличие к ней. В Руане анатомический театр городской больницы примыкал к саду, где играли маленький Гюстав и его сестренка Каро. «Сколько раз, бывало, мы с сестрой взбирались на забор и, свесившись среди виноградных лоз, с любопытством разглядывали покойников: солнце заливало их, те же мухи, что садились на нас и на цветы, ползали по трупам...» 1
1 Там же, т. 7, с. 341. (Пер. Т. Ириновой.)
Итак, уже с детства Флобер знал удел человека в этом мире и, несмотря на свой антикатолицизм, приобрел глубокое пристрастие к тем, кто ищет, кто бросается в крайности. «...Вид монашеской рясы, опоясанной веревкой с узлами, всегда будит притаившийся где-то глубоко в моей душе аскетизм» 1. Эта фраза взята из письма, где есть несколько великолепнейших страниц о проститутках. Флобер считает, что нужно уметь броситься — будь то в объятия бога, будь то на дно бездны. Только творцы имеют право вытащить свою лодку на песок, да и то при условии, что они изнуряют себя работой. Он восхищается Вольтером за его страстную, исступленную работоспособность, но ненавидит вольтерьянцев и говорит о них: «Люди, которые осмеивают все великое».
Над великим и над великими смеяться легко, и, правду сказать, Флобер дает много поводов для смеха, достань у нас смелости остановиться на них. Из-за своей странной жизни он стал слеп ко всему, кроме искусства и стиля. Недовольный браком любимой племянницы с нормандским буржуа того типа, который он всегда люто ненавидел *, Флобер тем не менее ухлопал на аферы этого благоприобретенного племянничка все свое состояние: буржуа-таки подобрался к своему врагу и разорил его, а разорив, убил, поскольку Флобера погубили постоянные денежные заботы, из-за которых он не мог спокойно работать.
Впрочем, разве у писателя чутье было лучше, чем у его буржуазного племянника? Советы, которые он давал последнему, были, надо полагать, не слишком разумными. Обращаясь к политике, Флобер последних лет Империи, бывавший в Компьене и у принцессы Матильды *, писал глупости похлеще, чем самые большие глупцы того времени. Стоит послушать его пророчества в год сражения при Садовой *: «Ну, а я считаю, что император сильнее, чем когда бы то ни было... Император держит Австрию под своей пятой, и я считаю, что в вопросах внешней политики сила, безусловно, на его стороне, что бы там ни говорили» 2. И Флобер добавляет для племянника: «Но если бы я был близок к политике, то действовал бы сейчас очень смело».
1 Там же, с. 324. (Пер. Т. Ириновой.)
2 Там же, т. 8, с. 173. (Пер. Т. Ириновой и М. Эйхенгольца.)
Он не видит, что надвигается буря, но видит приближение старости, неизбежной муки. С возрастом он как-то непонятно укрощается. Он пишет, что силы слабеют и это его размягчает. Постоянная мысль о старости преследовала Флобера до такой степени, что когда-то он даже мечтал написать книгу про Сент-Перин *. Но если не воспринимать конец жизни как пору молчания и сосредоточенности, когда все суетное намеренно, целенаправленно отступает, чтобы оставить человека наедине с пока еще незримым богом и дать приуготовиться к встрече с ним лицом к лицу, как проводить человеку свои последние дни и ночи? Сент-Бёв, который был уже при смерти, но выкарабкался и на несколько месяцев вернулся к жизни, написал Флоберу. «Получил от Сент-Бёва письмецо, — сообщает Флобер, — убедившее меня относительно его здоровья, но очень мрачное. Он, кажется, в отчаянии оттого, что не может посетить Киприйских рощ!» 1* Добавив, и совершенно напрасно, что его друг на верном пути или «по крайней мере верном с его точки зрения, что в конечном счете одно и то же», Флобер не может удержаться, чтобы не заговорить о себе, и содрогается, представив себя похотливым старикашкой... Но Гюстава Флобера обережет от этого его характер. Он склонен не столько к наслаждениям, сколько к печали. Его последние письма более чем когда-либо исполнены детской нежности. Если временами он и крутится около кухни или бельевой, то на его лице нет того омерзительного выражения, что у старого Сент-Бёва. Флобер пишет: «Потребность в нежности я удовлетворяю тем, что после обеда зову Жюли (свою старую служанку) и смотрю на ее платье в черную клетку, какое носила мама. И я вспоминаю эту прекрасную женщину, пока слезы не подступят мне к горлу. Вот таковы мои радости...»
Итак, сердце — орган, наиболее чуткий к восприятию бога, — у Флобера было замкнуто до конца жизни. Но неужели в этом смысле в нем ничего не происходило? Неужели оно ни разу не было потревожено услышанным зовом? Честно говоря, я не думаю, что Флобер ближе всего к Христу, когда объявляет себя католиком. «А я ненавижу жизнь, я католик...» 2 Нет, нет, напротив, его ненависть к жизни, его презрение к человеку отдаляют его от католической религии. Чтобы обрести свет, недостаточно сохранить в себе силу сердца, а во Флобере так велико презрение к человеку в себе и других, что он ничем не выделяет этот орган божьего творения, на котором господь оттиснул свою печать. И не зря в письмах он прибавляет к подписи разные насмешливые словечки, да и не только в письмах. Гонкур рассказывает, что как-то Золя настойчиво уговаривал Флобера написать книгу о Морни * и Второй империи, а тот, отказываясь, несколько раз обозвал себя дурындой. «Почему дурында?» — поинтересовался Доде. «Нет, никто лучше меня не знает, какая я дурында... Ну в крайнем случае старый шейх! *» И, произнеся это, Флобер сделал какой-то неопределенно-безнадежный жест.
1 Там же, с. 196. (Пер. Т. Ириновой и М. Эйхенгольца.)
2 Там же, т. 7, с. 389. (Пер. Т. Ириновой)
Бедный шейх забыл простейшую истину, что в каждом из нас есть нечто, не являющееся объектом искусства, а смысл и причина этого «нечто» неприкосновенны. Притом даже с эстетической точки зрения невозможно истолковать и отобразить душу, если отрицаешь ее. Нет, Флобер вовсе не был безучастен к духовным стремлениям, но, если не считать «Простого сердца» и г-жи Арну, показать это ему не удалось. У него все выглядит так, словно человечество в поисках света постоянно ошибается дверью. Человек, который смог написать «Три повести», несомненно, не только предчувствовал, но и распознал, где подлинная жизнь, но остановился на пороге. И меня поражает, что в своем «Флобере» Тибоде * сравнивает флоберовский эстетический католицизм с католицизмом Бодлера. Не будь даже у нас недвусмысленного свидетельства «Моего обнаженного сердца» *, все равно было бы совершенно ясно, что для Бодлера, даже когда он ропщет и кричит, что утратил веру, сверхъестественное, причем сверхъестественное христианское, существует, и в его глазах оно остается, возможно, единственной реальностью, без которой рухнул бы видимый мир, исчезли бы цвет и форма.
Эстетический католицизм — это выражение годится для Флобера, но не для грешника, не для жертвы из «Цветов зла». И разумеется, эстетика могла бы открыть Флоберу ту галерею, ведущую на неведомое небо, через которую его посредственный ученик Гюисманс проник в храм. Тщетно стали бы мы вчитываться в тексты Флобера: ни разу он даже не приближается к тому, чтобы пасть на колени. Но каким образом искусство из высшей цели жизни смогло обратиться у него в средство? В плане сверхъестественного или, в крайнем случае, чудесного отказ от бога и замещение его идолом представляется мне бесповоротным. Бог всегда может явиться и занять в человеке предназначенное ему место, если оно свободно, но что ему делать, когда это место уже захвачено, яростно и ревниво оберегается либо для Мамоны *, либо для Венеры, либо для Аполлона и Муз?