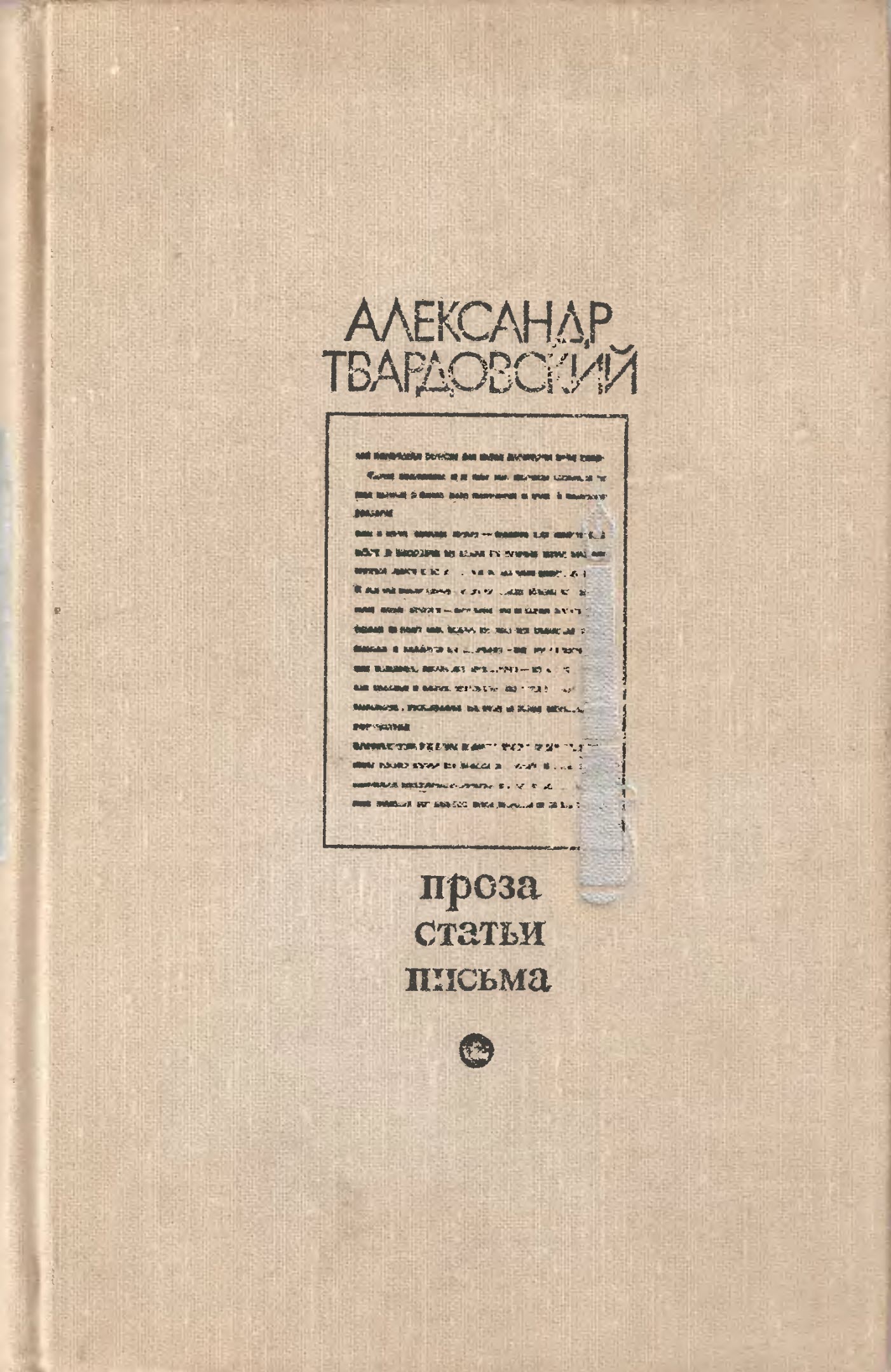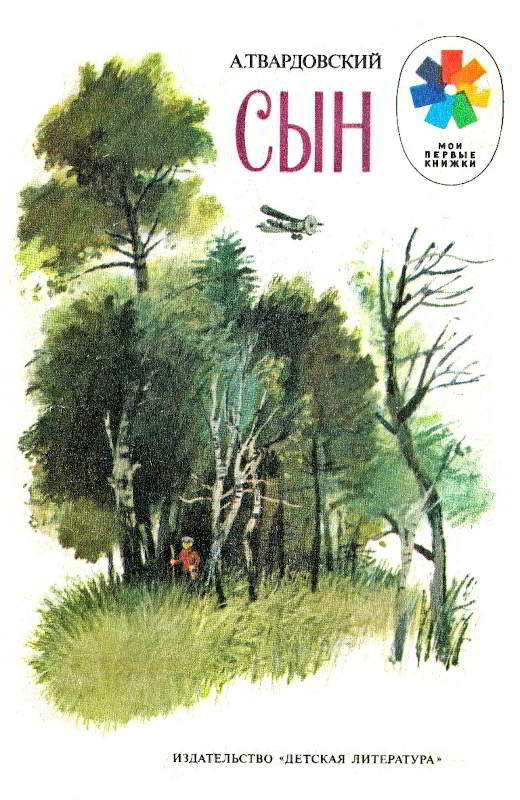страны.
Здесь, под Вилюпеном, он был контужен, но быстро поправился и сейчас ведет огонь по немцам, стоя на немецкой земле.
Трудно сказать, что в лице человека связано с его профессией, но Алексей Федорович, немолодой по годам артиллерист, в погонах старшего сержанта, никак сейчас не похож на бухгалтера. Коротко остриженные волосы с заметным блеском седины на висках, простое, в добрых, по не бесхарактерных морщинках, несколько землистого цвета лицо. Такое лицо может быть и у колхозника, и у наркома, и у генерала, и у солдата.
И вот он сидит у немецкой печки, узкой и высокой, точно стенка, смотри! на пышный, малиновый жар догорающих плиток брикета, сидит русский крестьянин, человек интеллигентного труда, семьянин и воин. Он отдыхает, и на лице его выражение скромной задумчивости, какая бывает на лицах людей, которым не скучно наедине со своими воспоминаниями.
ГРЮНВАЛЬДСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Этими днями на одном из участков нашего фронта группировка немцев в составе десяти самоходных орудий, с десантом автоматчиков прорвалась к маленькой деревушке Грюнвальде, где располагался медсанбат одной из наших дивизий.
В перевязочной и операционной палатах шла обычная напряженная работа. Десятки раненых готовились к эвакуации в госпитали.
Немецкие самоходки, с трех сторон окружив деревушку, открыли огонь по самому заметному из домов, на котором был белый флаг с красным крестом.
Невозможно даже на минуту предположить, что немцы не видели флага и стали бить залпами по деревушке с какой-нибудь иной целью, кроме подлой, изуверской расправы с беззащитными, вышедшими из строя бойцами.
Когда разрывы снарядов обрушили каменные стены домов, все, кто еще уцелел и мог как-нибудь передвигаться, стали выползать из палат, ища спасения на улице, в сенном сарае, за жидкими кустиками палисадников. Вражеские автоматчики бросились добивать их. Раненых расстреливали на земле, под ногами у лошадей, стоявших в сарае, поодиночке и группами.
Подстреленные лошади падали на убитых и недобитых людей. Живые в страшных мучениях, с сорванными повязками, пытались подняться из-под остывающих трупов.
Трудно, почти невозможно описать эту картину. Кощунством по отношению к памяти погибших мученической смертью наших товарищей была бы попытка сколько-нибудь преувеличить или приукрасить в словесном изложении то, что само по себе ни с чем не сравнимо в своей ужасной правде.
Командир медсанбата, майор медицинской службы Ковыршин, майор медицинской службы Арнольди вместе с начальником штаба медсанбата, старшим лейтенантом Квочкиным, водителями старшим сержантом Герасимовым и красноармейцем Присичем до последней возможности пытались спасти и защитить раненых бойцов, находившихся в момент нападения гитлеровцев в перевязочной и операционной палатах.
Отстреливаясь, они перебрались из развороченных снарядами помещений в подвал дома и продолжали отбиваться.
Тогда немцы ввели в подвал через пролом стены шланг, соединенный с выхлопной трубой самоходки, и наполнили помещение удушающим газом. Майоры медицинской службы Ковыршин и Арнольди, старший лейтенант Квочкин и красноармеец Присич погибли в подвале в результате отравления окисью углерода.
Новое злодейство фашистов еще раз подтвердило, что методы и приемы умерщвления советских людей удушающими газами не составляют привилегии специальных войск гитлеровской армии — полицейских, карательных и тому подобных отрядов. К этим гнуснейшим и подлейшим методам и приемам прибегают и основные, линейные войска Гитлера.
Единственный уцелевший из находившихся в подвале людей, водитель Иван Степанович Герасимов, спасся благодаря случайному обстоятельству. В подвале был картофель. Из-под него натекла лужица грязной воды. Герасимов мочил в ней полу шинели и дышал через влажное сукно.
Герасимов посоветовал то же сделать товарищам, но одним это уже не могло помочь, а у других вместо шинели были стеганые куртки, они плохо пропитывались водой из той скудной лужицы.
Герасимов, рассказывая о пережитой трагедии, неизменно повторяет слова своего командира, майора Ковыр-шина, с которыми тот умер в подвале:
— Знали бы только наши товарищи, какою смертью мы погибаем!..
…Мы посетили место нового преступления фашистов, видели своды подвала, пол которыми прозвучали предсмертные слова одного из героев-мучеников Грюнвальда, и повторяем их здесь как призыв к отмщению.
В августе 1943 года немцы, отступая с Орловщины, забрали с собою население большой, в сто пятьдесят дворов, деревни Коренево Жиздринского района. Угнанная вместе со всеми, пятидесятипятилетняя Настастья Яковлевна Маслова, простая, малограмотная женщина, в великой этой беде утешалась одним: что она со своими, что есть с кем хоть слово сказать, что на миру и смерть красна.
Из двух ее дочерей старшая, тоже Настасья по имени, была за фронтом, в Красной Армии, работала не то официанткой в столовой, не то уборщицей, и вестей от нее ждать было нечего. А младшая, Анюта, находилась при матери, и вся материнская тревога обратилась на нее.
— Держись за меня, доченька, — говорила она ей неизменно в долгой и страшной дороге. — Держись, не отходи ни на шаг, главное — не гляди на него, — так она называла всякого немца, будь то конвойный либо какой высший чин, кто бы он ни был. — Не гляди и не гляди. Он у тебя спросит что-нибудь, а ты отвечай коротенько: не могу, мол, по-вашему, — а сама гляди куда-нибудь, хоть на ноги себе, боже спаси, не подымай глаз. Поднимешь чуточку, только посмотришь, что за идол, — он тебя тут и приметит. А так он и мимо пройдет, ты за общим счетом будешь, мало ли народу-то, господи…
И диво не диво, но эта сила материнской опаски за свое дитя сохранила их неразлучными на всех этапах от подворья колхоза «Красная звезда» на Орловщине до какого-то серого, песчаного побережья моря, где был расположен лагерь на семь с половиной тысяч душ.
Давно уже мать и дочь оторвались от своих однодеревенцев — немцы распределяли людей кого куда, разъединяя даже семьи, — и давно вокруг, в великом скоплении несчастного, невольного люда, вперемежку с русской речью слышалась и польская, и белорусская, и литовская, и иная речь.
Настасья Яковлевна не знала этих языков, не знала толком, что за страны такие, откуда все эти люди, но видела, что все люди страдающие и со всеми он творит что-то немыслимое, понапрасну жестокое, нечеловеческое. И ей всех было жалко.
В лагере, в страшной скученности, от непривычного промозглого, сырого климата, от голода и холода люди болели и умирали десятками и сотнями. За несколько месяцев там из семи с половиной тысяч, не считая, что еще сверх того прибывали, осталось в живых неполных три тысячи.
И, наверное, немолодая и не очень крепкая здоровьем Настасья Яковлевна умерла бы там от одного того, что видела за той проволочной загородкой, сидя на охапке каких-то грязных,