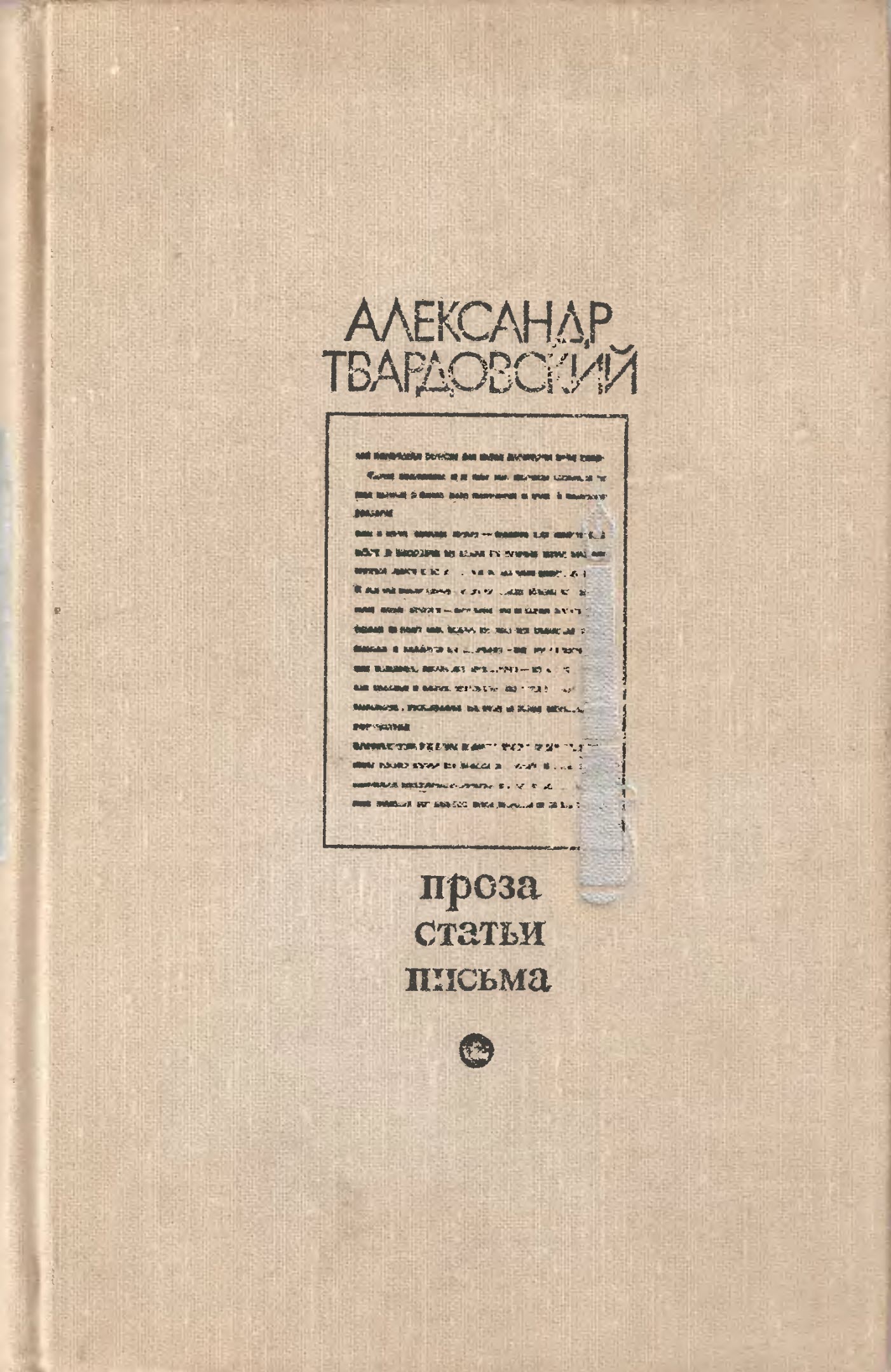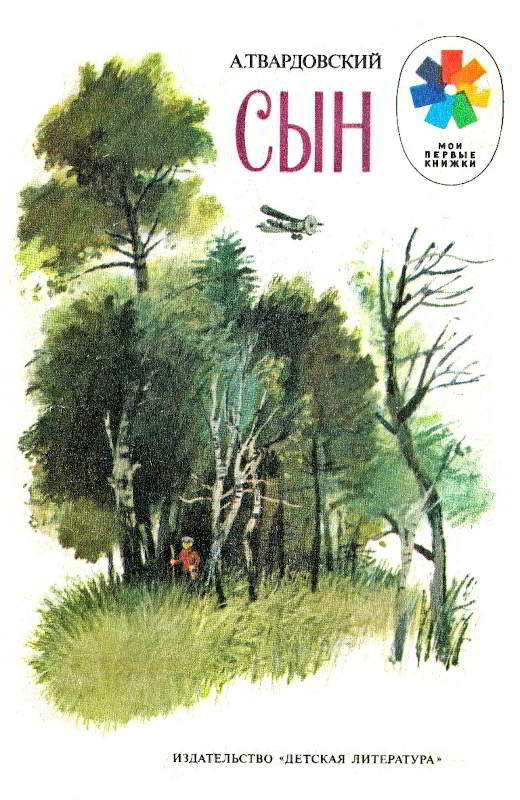своем полуразмолотом виде предстает настолько внушительно, что это несравнимо со всеми другими, уже пройденными городами Восточной Пруссии.
И так же, как в зрелище развалин, закопченных огнем, в грудах щебенки, загромождающих улицы и проезды, мы не можем не видеть живого напоминания о разрушенных немцами городах нашей Родины, так же нельзя не видеть во всем этом живого подтверждения всесокрушающей ударной мощи нашего оружия.
— Почище Смоленска сработано, — вроде как шутки ради говорят бойцы, вступающие в улицы города. Но в усталом, суровом и прямом взгляде их глаз справедливое торжество и горделивое сознание собственной силы.
А сила эта во всем вокруг. И прежде всего в этом великом людском потоке, заполнившем узкие улицы чужого города своей слаженной, внутренне деловитой суетой, словами команды, своей родной речью, песнями, музыкой, привезенными невесть из какой глубины России, своим большим воинским праздником победы.
Пехота на машинах, на броне танков и самоходных орудий, шоферы, дружелюбно перебранивающиеся из дверцы в дверцу, регулировщицы в форменных белых, немножко великоватых перчатках, мотоциклисты, верховые и пешие, — смотришь и невольно думаешь в простодушном и радостном изумлении:
«А и много же, ах как много нас, русских, советских людей!
Так много, что хватает и на то, чтоб держать в полном рабочем порядке необозримый наш тыл, пахать землю и ковать железо; и на то, чтоб поднимать к жизни столько отвоеванных у врага городов и сел; и на то, чтоб пройти столько верст, занять столько городов и земель противника; и на то, чтоб в три дня штурмом сломить его сопротивление на таком вот рубеже, на такой точке, как этот город Кенигсберг; и на то, чтоб в первый же день по взятии города заполнить его такой массой людей и колес. На все хватает!»
Грохот боя, откатившийся уже далеко за город, не тревожит разнообразного, делового и праздничного шума и говора на марше по главной улице.
Каких только лиц солдатских здесь не увидишь! И усатые, будто бы сонливые, но полные энергичной выразительности лица пожилых, и молодые, но успевшие возмужать на войне, по-мужски загорелые и по-солдатски серьезные, а все-таки юношеские, и белокурые, с чернью копоти на висках, и чернявые, припорошенные серой и ржавой пылью, и иные…
И на всех лицах — отражение дня большой и гордой победы.
Но город, там и сям горящий, там и сям роняющий с шумом, треском и грохотом сдвинутую огнем стену, там и сям содрогающийся от взрывов, — чужой и враждебный город. Он таит еще в теснинах своих развалин и уцелевших стен, в подвалах и на чердаках злобные души, способные на все в отчаянии поражения.
Группа бойцов-автоматчиков полубегом в тесноте уличного движения пробирается к переулку, где из окошек-амбразур полуподвала в безумном упорстве, возможно не знающие о полном поражении, немцы еще ведут пулеметный и винтовочный огонь.
Угомонить их снаружи оказывается довольно трудно с помощью одного только пехотного оружия. Тогда с истинно русской щедростью на них отпускается три-четыре снаряда танковой пушки — по числу окошек.
Слышно, как гремят раздельно, твердо и жестко выстрелы в упор.
В переулке наступает, как у нас говорят, полный порядок.
До самого берега проехать на машине было нельзя. Оставалось каких-нибудь триста-четыреста метров, где не было ни дорог, ни объездов, ни даже проторенных троп. Местность представляла собой нечто вроде огромного двора, заваленного и захламленного всевозможным горелым и догоравшим ломом, трупами людей и лошадей и вдобавок перепаханного фугасками. Черепичная скорлупа битых крыш перемешалась с белой и синеватой землей, вывороченной из пластов, покоившихся на глубине ниже уровня моря, моря, что уже блеснуло за безобразными зубцами обрушенных стен и ломаным лесом мачт, труб и вышек пристани.
Дальше можно было пройти только пешком, как прошли здесь наши, добираясь до немцев, стрелявших, по выражению одного бойца, из воды, стоя по колено, по пояс в прибрежном мелководье. Надо было прыгать с камня на камень, с брони всаженного в землю танка на гусеницу, расстелившуюся ровной дорожкой еще на пять шагов к морю, с гусеницы на бревна засыпанного блиндажа, по лошадиной туше, охваченной пламенем и уже затоптанной сапогами.
Наконец море у самых ног, море, окаймленное чуть видным леском знаменитой косы, замыкающей залив. Жаль, что оно не во всю свою ширь видно здесь.
Но все же море есть море. Голубое, близкое к цвету неба вдали и желтовато-серое, будто мыльное, у самого берега, оно тихо и мягко, но с присущей только морю скрытой силой и тяжелостью поталкивает в каменную стену мола.
Немецкая каска, залитая наполовину, покачивается на мели, то черпая воду через край, то сплескивая ее через другой. Погромыхивают пустые гильзы орудийных снарядов, перекатываемые волной.
Журчит своим порядком весенний ручей, нечистый, как будто крашенный кирпичной пылью. Мокрое тряпье, рвань и неизменная плесень серого пуха, намокшего и подсыхающего на солнце по всему берегу…
И все же море есть море, и его сырой и солоновато-мыльный, здоровый запах перебивает, если близко стоять, тяжелые запахи всяческой гари и разложения, столь знакомые всем на войне.
— А я, знаете, впервые его вижу, море, — признался с некоторым смущением офицер, чьи бойцы первыми вышли на этот берег и теперь охраняют его. — Все, знаете, как-то некогда было. То учеба, то работа, то служба, то война… Вот уже сорок лет округляется, а моря не видел, какое оно.
И очень многие, особенно молодые наши воины, с этого моря начали свое знакомство с тем, что составляет половину красы земной. У нас немало морей, но так велика страна, что можно прожить долгую жизнь, совершить не одно путешествие при современных средствах передвижения, прослыть заслуженно бывалым человеком и при всем том не успеть посмотреть моря…
Правее маленького городка с гаванью, которая была последней для немцев, припертых к воде, встретили мы на мысе Кальхольцер-Хакен троих наших бойцов, только что вышедших из боя, потому что не с кем уже было воевать на этом участке.
Невысокий, бледный от бессонья рядовой Михаил Медюк был из Белоруссии, сержант Николай Малышев, более видный, как говорится, со щеки парень, оказался волжанином, а высокий, но худощавый, под стать Медюку, Иван Шахлевич — не то из той же Белоруссии, не то с Украины.
Все трое — солдаты не первого года службы, люди, прошедшие из боя в бой от Москвы и Волги до этого Балтийского побережья, до этих болотистого вида камышей, откуда еще час назад в них стреляли немцы, — все трое видели море первый раз в жизни.
Может быть, лучше было