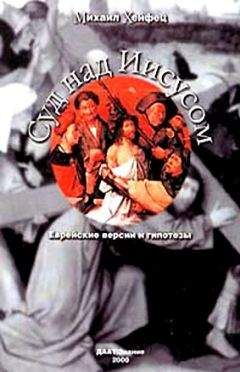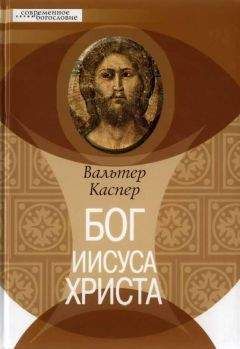Основная интонация главного талмудического текста про Иешуа — того текста, что был некогда, в старину, извлечен составителями из Талмуда, к нему прибавили тексты мидрашей, да еще сдобрили его «элементами того, что можно назвать еврейским народным творчеством» (по выражению переводчика, того же П. Гиля), не сводилась к ненавидящим страстям самоуверенных религиозных ортодоксов. Анализом древнеталмудического в своей основе текста — «Историей о повешенном или истории Йешу из Нацрата» я и собираюсь заняться ниже в этой главе.
* * *
Сначала должно подготовить нерелигиозного читателя этого эссе к знакомству с особенностями того необычного жанра, в которых творились сочинения, подобные «Истории», о которой речь зайдет ниже.
Талмуд, или Устная Тора, составлялся на протяжении примерно пяти веков несколькими тысячами мудрецами-законоучителями, принадлежавших ко многим поколениям евреев. Их целью — после утраты государства, а потом и родины — было воссоздание некоего «духовного государства», способного сохранить внутри своих границ народ, творение рамок поведения в любых пространства, во всех временах временах. Не дать народу раствориться в окружающих мощных и высоко культурных национальных и имперских конгломератах! Талмуд возводил незримую стену, которая окружила еврейство границами необходимого поведения — во всех концах обитаемой ойкумены, в любой возникающей неожиданной ситуации, в любую эпоху, среди любого народа. Отсюда невероятная подробность и разработанность деталей жизни и быта, отсюда колоссальное значение, которое Талмуду как наставнику жизни придавалось в нации.
Талмуд состоит из двух неравных частей. Главная — «галаха» (существительное, произведенное от глагола «лалехет» — «идти», т. е. как надо идти, как действовать). Это — свод религиозного законодательства. Как ни странно, именно Галаха составляет относительно малую часть Талмуда — примерно шестую долю всего текста. Вторая часть — «Агада» (видимо, от глагола «леагид» — «сказать», т. е. сказание) занимает остальные пять шестых этих томов. Отец научной иудаистики Л. Цунц писал: «В Агаде есть все, что только можно себе вообразить, кроме зубоскальства и бездумного зубоскальства» (8): она включает комментарии к Писанию, рассказы из жизни мудрецов и их учеников, нравоучительные истории, притчи, религиозную поэзию, фанатстические истории, анекдоты, врачебные советы, сведения по географии, астрологии, биологии, заклинания, ворожбу, народные истории, тексты, посвященные приходу Машиаха, исторические сочинения, размышления на теологические темы, крылатые пословицы и афоризмы и пр., и пр.
Обе части отличаются друг от друга не только тематикой, но стилем, даже авторским духом, хотя сочиняли и тот, и другой раздел часто одни и те же люди. Будто заковав себя в чеканные формулы Закона, авторы в главах по соседству давали волю своей творческой свободе. «Если Галаха вечно хмурится, то Агада напротив приветливо улыбается, — характеризовал разницу стилей „ивритский Пушкин“, Хаим-Нахман Бялик. — Первая — воплощение Закона: требовательна, ригористична, тверда, как железо; вторая — снисходительна, терпима, тягка, словно масло, она — само милосердие… Если там — давящая сила предписаний, обязанность, которая порабощает, то тут — постоянное обновление, свобода, легкость, независимость… Там — сухость прозы, раз и навсегда избранная форма, маловыразительный, лишенный нюансов язык, господство рационализма. Тут — сочность поэзии, разнообразие, постоянная смена настроений, красочность языка, царство чувства» (9).
Нередко вместо термина «агада» богословы используют иное слово — «мидраш» (от глагола «дараш» — «комментировать»). Однако это не одно и то же: мидраш, конечно, может быть «агадой» (сказанием), но может ею и не быть… Сохранилось несколько огромных сборников «мидрашей», толкующих не только заповеди, но вообще всю жизнь человеческую. Многие мидраши сочинены уже после окончания Талмуда, этим они тоже отличаются от классической «Агады». В чем, однако, состоит разница между агадой, мидрашами и привычным для нас, светских людей XX–XXI веков, народным творчеством, фольклором?
Как фольклор любых иных народов, агада и мидраши передавались из уст в уста (до тех пор, пока Талмудический запрет на запись «Устной Торы» не был снят раввинами). Подобно фольклору, они существовали веками, передаваясь из поколения в поколение. Подобно фольклору, агада и мидраши предназначались всему народу, и не было синагоги, где бы их не читали и не цитировали. И все-таки между агадой и фольколором есть принципиальная разница.
Фольклор сочиняется народом, вернее, безвестными творцами, и уже только потом шлифуется теми, кто хранит и передает его из уст в уста. Агаду и мидраши сочиняли совсем не простые люди, а профессионалы — лучшие из лучших знатоков Торы, из мудрецов, из проповедников. И простые люди не смели такие тексты править… Правда, мудрецы действительно были связаны с народом (это и сделало агаду и мидраши внешне похожими на еврейский фольклор). Когда вы познакомитесь с текстом «Историей о Йешу», то убедитесь, насколько эта «агада» есть подлинно народный по стилю и духу текст. И все-таки это, повторяю, не фольклор, а скорее — особого рода литература. Можно выразиться так: народная литература.
* * *
«История о повешенном, или история о Йешу» составлена из древних агадических сюжетов Талмуда, в нее добавили фрагменты из мидрашей и, возможно (по мнению переводчика) какие-то народные сказания и интонации. По мнению одного из первых исследователей этого текста, д-ра Шмуэля Крауса, «Историю» сочинили впервые в 5 веке нашей эры на арамейском языке (10). Позже, очевидно в XI–XII вв., когда арамейский язык вышел из народного обихода, сказание перевели на иврит и заодно добавили к нему новые куски.
Легенда об Иешуа пользовалась большой популярностью у еврейских читателей: по информации переводчика, до нас дошло несколько десятков вариантов ее текста (11).
В отличие от Евангелий, мне, конечно, придется пересказать для читателей сюжетные линии «Истории» подробно.
Итак в 3760 году от сотворения мира (в разных вариантах указаны разные даты), т. е. в нулевом году нашей эры, во времена Ирода Великого, императора Тиберия и царицы Елены, жил богобоязненный человек, студент духовной академии Йосеф Пандера. Была у него добродетельная и прекрасная жена по имени Мирьям. Понравилась несчастная женщина их соседу, преступному развратнику по имени Йоханан.
Однажды ночью, на исходе субботы, когда благочестивый Йосеф пошел учиться в свой «бейт-ха-мидраш» (духовную академию), «злодей занял его место и овладел Мирьям, а она думала, что это ее муж. И Мирьям забеременела от него». Когда студент Пандера вернулся из академии, жена рассказала ему, что произошло, и «он понял, что то был сосед его Йоханаан».
Страдающий муж посоветовался с наставником в академии, потом простился с учителем и ушел в Вавилонию. «В положенное время родила Мирьям сына, назвала его в честь своего дяди — Йешуа, и обрезали его на восьмой день. И стало известно людям, что сделал с ней Йоханаан, и все смеялись над нею» (12).
Современный читатель, возможно, поразится жестокосердию «людей»: невинная женщина стала жертвой коварного обмана, семейная ее жизнь была разбита, а окружающие издевались над ней, а не над преступным развратником. Но эта деталь, по-моему, свидетельствует как раз о подлинности, о древности текста: именно так, вне морали, ощущали свой мир люди древних эпох. (Иллюстрация для сведения российских читателей: князь Владимир Святославич убил законного владельца престола, старшего брата Ярослава, забрав в свой гарем его вдову и сотни других женщин, и это не мешало ему стать любимым героем народных былин, «Владимиром Красным солнышком», а потом быть и канонизированным «святым и равноапостольным» в православной вере…)
«А когда подрос этот Йешу, то учился в бейт-ха-мидраше, и был этот Йешу смышлен и выучивал за один день столько, сколько другому пришлось бы учить много дней. И говорили мудрецы наши, благослованна их память: „Мамзеры (т. е. незаконнорожденные — М. Х.) — они смышленые“» (13).
Исполнилось молодому человеку тридцать лет, и ничем особенным его жизнь до тех пор не была отмечена (как и в Евангелиях — М. Х.). Но произошло мелкое, на первый взгляд, событие: шли по базару два мудреца — и в знак почтения их ученики накрывали голову и преклоняли колени перед ними. А Йешу прошел мимо с гордо выпяченной грудью и непокрытой головой. «И сказал один из мудрецов: „По его дерзости видно, что он — мамзер“ (14).
На следующий день сюжет обостряется: уже в бейт-ха-мидраше Йешу дерзнул в присутствии своего учителя обучать других учеников Закону. Один из мудрецов говорит:
— Не так ли ты сам учил: „Ученик, который обучает кого-либо законам в присутствии своего учителя, достоин смерти“? (15)