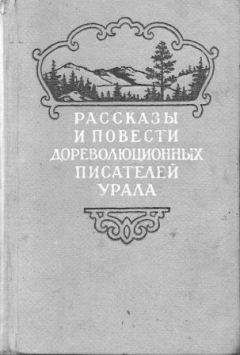Когда друг становится министром, все равно мы дружим с тем мальчишкой, которого встретили на заре жизни. Слава Богу, Вадим Кожинов не стал министром, но высокое имя обрел. Одну из своих книг Вадим подарил мне с надписью — “к пятидесятилетию нашей дружбы”. Человек разнообразнейших дарований, Вадим оставался для меня прежде всего поэтом — во всем. Таков, мне кажется, “сокрытый двигатель” яркой натуры человека, что был всегда — “юноша веселый”.
Петр Палиевский как-то сказал о Пушкине, что это был христианин, наиболее расположенный к диалогу с атеистом, и вместе с тем атеист, открытый для общения с христианином. С позволения автора этой красивой формулы (не вникая в нее по существу), решаюсь сказать, что Вадим Кожинов — славянофил, ведущий диалог с западниками, и западник, симпатизирующий славянофилам.
Русский характер... Бесшабашный заводила на миру, созидающий целые фолианты. И — “сын гармонии”, готовый увлечься уличным певцом. Историк, безошибочно достающий с книжной полки необходимый источник, помнящий бесчисленные статистические данные. И поклонник муз, читающий наизусть страницы летописей, едва ли не всего Пушкина, Тютчева, Фета... “Гуляка праздный”, “бродяга и артист”, который никогда бы не стал академиком, — хотя бы потому, что не придавал слишком большого значения своей персоне (впрочем, зная себе цену).
Вадим не обиделся, когда я — в студенческие наши годы — сказал ему: “Ты играешь в карты с таким видом, будто играешь в шахматы”. Это было во время одного из наших ночных бдений. Вадим рассмеялся: “Правильно!” И процитировал: “Он и в карты, он и в стих, и так неплох на вид”.
Для ученых — своего рода интеллектуальный “хулиган”, как звали себя и Маяковский, и Есенин; “возмутитель” спокойствия, нарушитель порядка, тяготевший, однако, в своих трудах к созданию систем, которых не было ни в одном учебнике, ни в одной монографии.
Эта двойственность, множественность, многоликость, многоплановость всегда пульсировала в Вадиме, который был во всем — артист. Пережив немало человеческих, художественных, научных (и иных) увлечений, Кожинов ни с чем не расстался. Все привязанности, в том или ином виде, продолжали жить в Вадиме. Это позволяло, сохраняя определенность, быть не закоснелым, не “упертым”, а живым, многосторонним, виртуозным.
Вадим в молодости писал стихи, которые декламировал, как все поэты, обгоняя ритм, слыша общий гул — поверх логики. И во всем для него главным была стихия. Вадим очень любил море. Будучи в конце 80-х в Японии (читал лекции), отложив назначенные встречи, попросил, чтобы его отвезли к берегу Тихого океана. И, ликующий, вбежал в катящийся навстречу соленый вал...
В студенческие времена Вадим прекрасно читал стихи Маяковского, которого мы любили. Вадим научил меня воспринимать и читать стихи, открывая в них побеждающую музыкальную волну. Я понял, что это и есть смысл поэзии; “все прочее — литература”. Кстати, и позже Вадим всегда так читал нравящиеся стихи — от классиков до современников, подчас совсем молодых и неизвестных.
В Московском университете у нас был общий учитель в понимании Маяковского — Виктор Дмитриевич Дувакин, горячий энтузиаст, благородный, отважный человек. В своем спецкурсе и в семинаре Виктор Дмитриевич захватывал нас и как филолог, и как очарованный “маяковист”. И через много лет, на вечере памяти Дувакина, Вадим произнес сердечное слово об учителе...
Так вышло, что наше, едва ли не первое с Вадимом выступление в печати было общим: в “Литературной газете” мы спорили с критиком В. Назаренко о ритмике Маяковского. Это было в 1950 году; подпись — “студенты Московского университета”.
Однажды вузком комсомола отправил нас на автозавод читать в цехе лекцию о Маяковском. Стоя посреди станков и машин, во время обеденного перерыва, Вадим буквально заворожил рабочих: казалось, он раскачивает колокол. Нас наградили большим тортом, который мы радостно поглотили на обратном пути прямо в троллейбусе.
Мальчишество соседствовало в нас с самыми серьезными идеалами, разумеется, в романтическом духе, воспитанными эпохой. В ту пору в народе любили и жалели студентов. По студенческим билетам, с десяткой в кармане, мы совершили первое свое путешествие по России, побывали в Ярославле, в Костроме, в Плесе. В город Фурманов мы привезли весть о кончине Георгия Димитрова и добились, чтобы по этому поводу были вывешены красные флаги с траурной лентой.
В Ленинграде мы поспешили увидеть Смольный, крейсер “Аврора” и памятник Ленину у Финляндского вокзала. Но, конечно, классические чары града Петра захватили нас. Вадим уже тогда великолепно знал историю и архитектуру, мог часами рассказывать об улицах и домах — и в Ленинграде, и в Москве. Очень любил старый Арбат, где жил многие годы. Считал, что Пушкин родился здесь, на Молчановке...
Своеобразное озорство, “авантюрная жилка”, натура поэта и артиста — и вместе с тем блестящая образованность, удивительная память, ученость, не становившаяся важностью, а соединявшаяся с крылатостью, естественное умение дружить, распахнутость, внезапность, импровизационность и... серьезность, обдуманность: обаяние Вадима Кожинова покоряло всех.
Прибавьте к этому гитару в руках Вадима, чей репертуар был неистощим. Звон струны слышен, кажется, во всем облике и во всем творчестве Вадима Кожинова.
В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов Вадим Кожинов был увлечен новаторством в искусстве. На своей квартире он устроил выставку художников в стиле “баракко” и дискуссию вокруг необычных полотен. Выступая на вечере, говорил, что перспективным достижением поэзии являются стихи Бориса Слуцкого и Андрея Вознесенского. Советовал мне приобрести книгу Эсфирь Шуб. С удовольствием исполнял песни Булата Окуджавы, Юзика Алешковского, с которым дружил.
Мне кажется, что переломной для Вадима Кожинова стала встреча с Михаилом Михайловичем Бахтиным, освоение огромного мира выдающегося русского мыслителя. Если бы у Вадима Кожинова была только эта заслуга — утверждение имени и наследия Михаила Бахтина, издание и истолкование книг крупнейшего русского ученого, то и тогда Вадим Кожинов заслуживал бы нашей признательной памяти. С этой поры, видимо, начинает складываться собственная историко-литературная концепция Вадима Кожинова. Сердцевиной ее являлось, несомненно, чувство и понимание России, взятой в европейском и мировом масштабе.
Притом это было, в первую очередь, не теоретическое умозрение, а живое, теплое ощущение Родины, с ее городами и весями, с ее просторами и людьми. Самую большую радость я видел у Вадима, когда он собирался в Вологду, к Василию Белову — в Тимониху.
Достаточно было однажды придти к Вадиму и сказать, что на Новый год надо ехать в Кострому, чтобы он тут же начал собираться в дорогу. Вадим Кожинов мог открыть в каком-нибудь маленьком городке неизвестного талантливого поэта, и вот уже все силы Вадима устремлялись на то, чтобы создать поэту имя — выпустить книгу, провести вечер, убедить критиков и читателей.
В шестидесятые годы Вадим Кожинов начинает открывать плеяду поэтов, чье творчество знаменовало новую веху в самосознании России. Это Владимир Соколов, Николай Рубцов, Анатолий Передреев, Анатолий Прасолов, Станислав Куняев... Позднее рядом с ними Вадим Кожинов назвал Юрия Кузнецова. Но этими именами далеко не исчерпывался круг поэтических светил, которые вызывали пристальный интерес критика. Все мы помним, что любовь Вадима Кожинова к современной русской поэзии была поистине ненасытной. Сколько стихов Вадим восхищенно читал друзьям — иногда и по телефону! Бывало, читает, читает, а потом спросит: кто это? У Вадима Кожинова был дар — угадать, назвать, утвердить поэтическое имя.
Несколько лет назад Вадим пригласил меня к себе, не сказав, о чем будет идти речь. Включил видеозапись, которую мы слушали и смотрели часа два, потом только назвал имя: Александр Васин — певец, музыкант, поэт, педагог. Студия Александра Васина — это, можно сказать, последняя любовь, последняя радость Вадима Кожинова. В кругу этих молодых людей, этой поющей России, молодел и Вадим.
О самом главном в Вадиме Кожинове я, может быть, еще не сказал. Он был живой, звучащей книгой русской культуры. С ним приходило и музыкальное веяние, и глубокое понимание духовного величия России. Сколько открытий он нам подарил! Сколько я от него узнал! Вадим открыл мне Пушкинскую речь Блока “О назначении поэта”, позднего Пушкина, бетховенскую силу Фета, гражданственную лирику Тютчева и многое, многое другое. Вадим Кожинов сказал, что Россия — это и Нил Сорский, и Иосиф Волоцкий. К церкви Вадим шел глубинно, не спеша за “обрядоверием”, выстрадывая Бога.