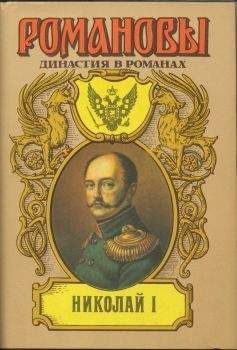прейскурантом звеня,
хоть в Москве, хоть в Италии -
без меня, без меня.
Вот беда моя - личная,
а возня и грызня
и тусовка столичная -
без меня, без меня.
Там - варилось, тут - жарилось,
вот всему - и зарок!
Я и так отоварилась
этим хлёбовом впрок.
Мной и так обесценено
было много чего -
от перчатки Есенина
до него самого,
чтоб народ нечитающий
выбрал много иных,
тех кумиров пока ещё,
лошадей временных.
От такого пожарища,
вплоть до Судного дня,
вы теперь уж, товарищи,
без меня, без меня[?]
* * *
Как я люблю масштабных неудачниц -
не дачниц, не машинниц, а чердачниц,
но не мошенниц - Боже упаси!
О, сколько их, любимых, на Руси!
А вы, в своих "шанелях" и "диорах"[?]
Люблю и вас! Но в шалях и оборах,
в смешных, почти нелепых кружевах -
мне всё равно роднее и дороже.
Вот их любовью дорожу я тоже,
она у них не только на словах.
Масштаб масштабу - рознь!
Не в этом дело.
Но вот сейчас, у крайнего предела,
почти на роковой очереди
я думаю, а кто за гробом встанет, -
"шанель" смутится, и "диор" отпрянет,
в Мадрид уедет, словно в воду канет -
исповедимы ль Божии пути?
А эта, почтальонка демиурга,
из Костромы, Ростова, Оренбурга,
займёт деньжат, билет в плацкарт добудет
и даже рассусоливать не будет.
Бела, как мел, у смертного одра
в оборках и в платочке чёрном встанет
и зарыдает. И сто раз помянет,
как мать, как милосердная сестра.
Письмо в Париж
Возвращаясь в Эдем
после долгих блужданий
по России с её нужниками в грязи,
среди сказок её или иносказаний,
удивительных - издали, страшных - вблизи,
одинокий, как перст, ты любовью - измучен,
может, это и есть родовое пятно? -
ни ногтями содрать
ни забыться в падучей -
не залить даже водкой - проступит оно!
Так на вёсла садись и плыви по теченью -
вдоль засохших кустов по умершей реке.
Но и это уже не имеет значенья
для России в её инфернальной тоске.
Может, только Господь
и остался над нами,
чтоб в надменной Европе, в роскошном саду
мы безжалостно мучились русскими снами,
умирать бы хотели - лишь в русском аду.
Городок
Запорошило, даже замело
наш городок - ни город, ни село,
изобретенье Сталина, чей пыл
читателя - к иным благоволил,
ну а иных писак - в расход, в распыл.
Вот Пастернак на дачах "жжот", а там,
в темницах, - подыхает Мандельштам,
и логики за этим - никакой,
лишь ход светил с безумною тоской.
Лишь Бунина известный всем отказ:
"Я обойдусь без дачи и без вас!"
Здесь всё старо, впопад и невпопад, -
дома, доносы, и успех, и сад,
и запустенье века, и прогресс.
И даже неизбывный интерес
завистливых друг к другу поэтесс.
Гляжу в окно - там всё заметено.
И Сталина уж нет давным-давно,
и дом, что строил он, - неузнаваем.
И тем, кто не читает, всё равно:
и логика сидящего в трамвае,
и логика бегущих за трамваем.
* * *
Муж пьёт и бьёт.
Ну что ей делать, дуре, -
посуду бить? Но окромя битья,
в какой такой искать литературе
ответ на безответность бытия.
И утром, вместе вбившись в электричку,
сквозь слёзы поглядеть на подлеца,
когда зажжёт он виновато спичку
и в тамбуре осветит пол-лица.
Таких морщин, такой улыбки глупой,
такой тоски по счастью - где предел?
[?]Похоже, Бог под неподкупной лупой
её любовь слепую разглядел.
Иначе как бы вынести такое,
чтоб на весах - в блевотине, в грязи -
всю взвесить жизнь, и, как Гомер при Трое,
всё рассмотреть в подробностях, вблизи.
Роман
Тебе - почти что сорок,
а мне - почти что двадцать.
И мокрых листьев шорох
мешает целоваться.
Не то пройдёт соседка,
не то сосед заглянет,
и хоть цела беседка -
беседовать не тянет.
Качнёт шары гортензий
или шепнёт на ушко,
но к ветру нет претензий -
проглядка и прослушка!
Потом промчится время,
летучее, как пламя.
И что там станет с теми,
застенчивыми, нами,
никто уже не вспомнит,
никто уже не знает.
Лишь ветер парус комнат,
как прежде, надувает.
Там мне - почти что сорок,
тебе - почти что двадцать.
И кажется, что - морок,
и тянет целоваться.
И видится, что шалый
горит огонь в камине.
И губы твои - алы,
и губы мои - сини
от взглядов этих жарких,
застенчивого "здрасьте",
от этой кочегарки
безумия и страсти.
[?]Закуришь, выйдешь в сени.
Я встану на пороге
у молодости, лени,
у полной безнадёги.
* * *
Невозвратно и непоправимо.
Голос твой остался вдалеке,
только голос, только тень от дыма,
только отпечатки на песке.
... Господи, верни мне хоть на склоне,
выдерни из памяти незлой -
наши полудетские ладони
над сердечком с острою стрелой.
* * *
Не казанская сирота,
на Казанском стою вокзале.
[?]Здесь не в губы меня - в уста
тёмной ноченькой целовали.
Ах, как долго качалась высь
и казалась судьба - беспечной.
Здесь мне в вечной любви клялись,
и она оказалась - вечной.
На несчастие нам двоим
этот поезд всё мчится, мчится.
И завёрнута в едкий дым
жизни белая плащаница.
Памяти Феди
Как хорошо, что ты был на земле -
ел землянику, купался в Урале[?]
Вместе черёмухой губы марали
мама и мальчик!
И вот на столе -
в тёмной прозекторской[?]
Боже, о Боже,
Матери Божьей смирение дай -
стоя у гроба, с бесслёзною дрожью
жизни слепой собирать урожай.
Вот и рожай, плодоносная дева,
в тесто, в опару упрячь и чужай-
ся всякого-якого "права" и "лева",
мальчиком только своим дорожай.
Что там стишки, гонорарчики, цацки,
что там газетная правда и ложь,
коль материнством -
не бармы ли царские! -
Бог наградил за здор[?]во живёшь.
Вот и прошу я у Бога прощенья.
Вот и молю Чудотворца опять
сон о младенчестве видеть - отмщенье,
пяточки сыну во сне целовать[?]
2010-2012
от Евгения МИНИНА