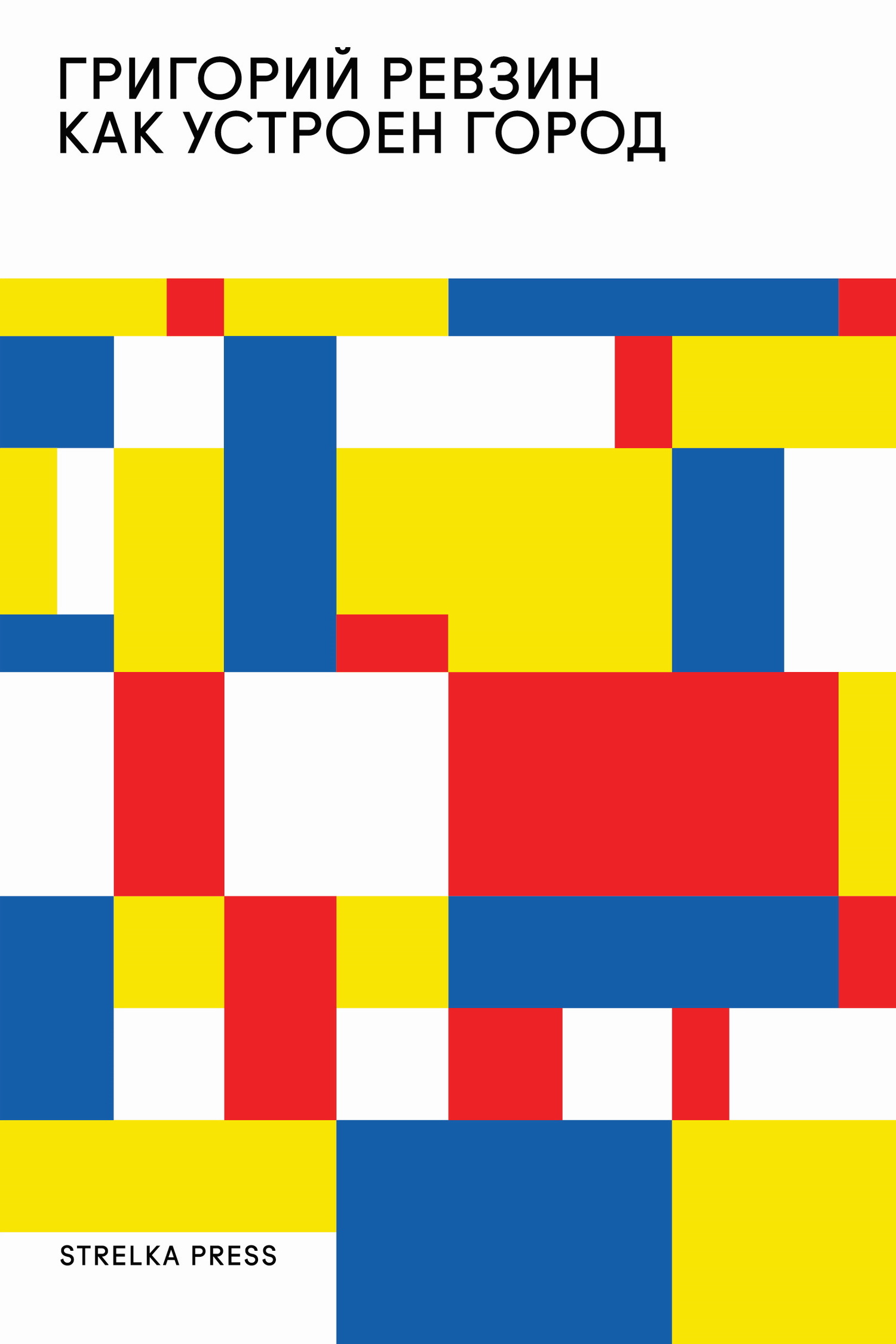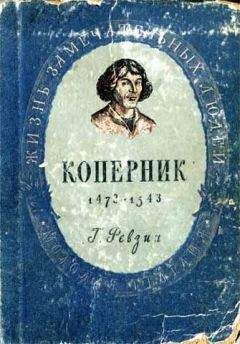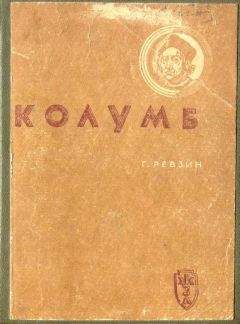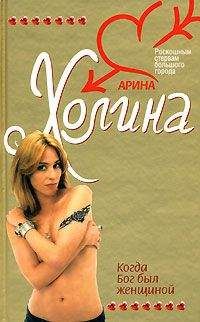угодно, тоже деконструирует архитектурную форму: форма становится неорганичной, она не растет из одного источника, она представляет собой «чужое слово» (если пользоваться термином русского теоретика культуры Михаила Бахтина), разрушающее единство авторской речи. Цитирование – это атака на целостность формы. В определенном смысле та же атака, которую предпринимает деконструкция.
Я кратко излагаю эти сравнительно общеизвестные тезисы вот для чего. Предположим, мы принимаем: архитектура после Освенцима невозможна. Она подвергается яростной атаке: архитекторы как будто вместо того, чтобы строить здание, проектируют, как его взрывать, или по крайней мере фиксировать архитектурную форму через секунду после взрыва, когда части стен еще не разлетелись во все стороны, но уже начали свой полет. Вопрос – почему? В чем смысл? Освенцим, конечно, чудовищная катастрофа, но зачем же стулья ломать?
Это выглядит абсурдом, если не вспомнить другое не менее хрестоматийное обстоятельство. Главной интенцией архитектуры авангарда было жизнестроительство. Архитектор проектирует не здание, архитектор проектирует жизнь посредством здания. Ровно это делало архитектурный авангард архитектурой русской революции, ровно это приводило его к изобретению новых типологий (домов-коммун, клубов), ровно это оправдывало поиск новых форм. Но что значит проектировать жизнь? Чье это занятие? Кто занимается разделением людей на группы, создает для них сценарии поведения и велит им действовать в соответствии с этим сценарием? Это делает власть. Неважно, делает она это посредством приказов, агитации и пропаганды, решеток или камер слежения, подслушивающих устройств или физическим насилием. Важно, что жизнестроительство – это управление людьми.
Мне лично жизнестроительство представляется явлением более или менее отталкивающим. Однако важно понимать, что у многих архитекторов это один из краеугольных камней профессионального самостояния. И сегодня большинство выпускников МАРХИ в ответ на вопрос, почему они выбрали профессию архитектора, отвечают, горя глазами, что архитектор, он не просто проектирует дома. Он проектирует жизнь, он строит счастье людей. Ребята, а вам не приходит в голову, что вы просто хотите власти? Вам не в архитектурный институт надо было, а в мелкие чиновники.
Это было лирическое отступление. Посмотрим на власть в менее практическом смысле. Поэт, музыкант, актер – все они имеют власть над людьми. Отличие архитектора в том, что его творение захватывает граждан на более продолжительное время, так сказать, в постоянном режиме, но в ослабленной форме. От застывшей музыки легче абстрагироваться, чем от истекающей тебе в уши, но застывшая – всегда с тобой.
В этом смысле нельзя сказать, что жизнестроительство – это исключительное свойство архитектуры авангарда. В авангарде оно просто предъявлено как позиция в социальной революции, отчего отчаянно заметно. Но в предшествующем авангарду модерне оно осознавалось никак не менее программно. Достаточно вспомнить идею Gesamtkunstwerk Рихарда Вагнера – замысел превращения жизни в тотальное произведение искусства, синтеза театра, музыки, архитектуры, живописи и т. д. Напомню, что Борис Гройс, русский философ культуры, написал знаменитую книгу «Gesamtkunstwerk Сталин» – по его мнению, это превращение в полной мере осуществилось в виде государства как произведения искусства со Сталиным в качестве автора. И хотя Виктор Арсланов, российский теоретик искусства и историк искусствознания (убежденный марксист), доказывает, что превращение искусства во власть – это свойство именно авангардного и поставангардного искусства (у него есть текст «Малевич, мавзолей и воля к власти»), спасая тем самым от упреков идеалы высокой классики, в этом все же возникают определенные сомнения. Возьмите архитектуру Французской революции – Булле, Леду, Лекё, которых так любил Вячеслав Глазычев (он даже перевел на русский совершенно неудобоваримую книгу Леду). Не было ли в ней идеи управления революционными массами посредством архитектурной формы? Не есть ли эта форма всегда институт социальной власти?
Об архитектурной форме. Как это ни странно, с философских позиций это абсурдное явление, переворачивающее порядок мира наизнанку. У Аристотеля форма – это смысл вещи, ее идея, и само это понятие соответствует платоновскому «эйдосу» (идее). Без формы материя – это еще ничем не ставшее нечто. Форма проникает внутрь материи, одушевляет ее и приводит к актуальному бытию. Она, конечно, может проявиться снаружи предмета, Аристотель, скажем, приводит пример медного шара, где медь – материя, а шар – форма. Но может и не проявиться: скажем, человек – это тело (материя) и душа (форма), а душу так прямо снаружи не видать.
В любом случае «философская» форма – это не внешняя граница, не сосуд, в который заливается бесформенная вода. Архитектурная форма же может быть самой разной, но она никогда не форма ДНК, структурирующая тело изнутри. Она – внешняя граница, формующая материю извне. Правда, теоретики эпохи модерна и авангарда попытались создать альтернативную теорию архитектурной формы, при которой форма здания должна отражать его внутреннюю сущность (и тогда это истинная архитектура), а не быть его внешней декорацией (и это архитектура ложная). Я подозреваю, кстати, что сама по себе эта теория возникла под влиянием Аристотеля, в надежде как-то привести в соответствие архитектурные представления с философией. Но даже в этой парадигме (у Моисея Гинзбурга, скажем) архитектурная форма отражала, выражала внутреннее содержание, но не была им. Оставляя в стороне вопрос о том, до какой степени это понимание архитектурной формы продуктивно, обращу внимание на то, что в истории архитектуры это было выворачиванием здания наизнанку, изнутри наружу, что и обеспечивало приему статус авангардного жеста. То есть вся остальная история архитектуры была устроена более или менее не так. Она занималась внешней границей.
Искусствознание как наука возникло в конце XIX века как изучение художественных форм. Алоиз Ригль, один из отцов искусствознания, выдвинул понятие «воли к форме» (Kunstwollen) – синтетической силы, которая заставляет художника творить форму. Это скорее философский или поэтический образ, чем научное понятие, и тут важна рифма с другим таким же образом, возникшим чуть раньше. А именно «воли к власти» Фридриха Ницше. Это как будто бы не вполне одно и то же, «воля к власти» – это воля к господству над социумом, «воля к форме» – это воля к господству над материей. Или все же это варианты одного и того же господства?
На этот вопрос можно отвечать с двух концов. Можно со стороны архитектора, и тогда это вопрос о том, насколько формотворчество тождественно борьбе за власть. Эта тема сложна, спекулятивна, и вопрос никогда не будет иметь однозначного ответа. Но можно со стороны власти, и тут все решается гораздо проще. В городе ограничение, оформление, форма – это воля власти.
Жизнестроительство – это претензия архитекторов на власть. У нас власть не склонна делиться полномочиями. Ровно поэтому мы оплакиваем прерванный полет русского авангарда: это результат конкуренции между архитекторами и властью за право управления социумом,