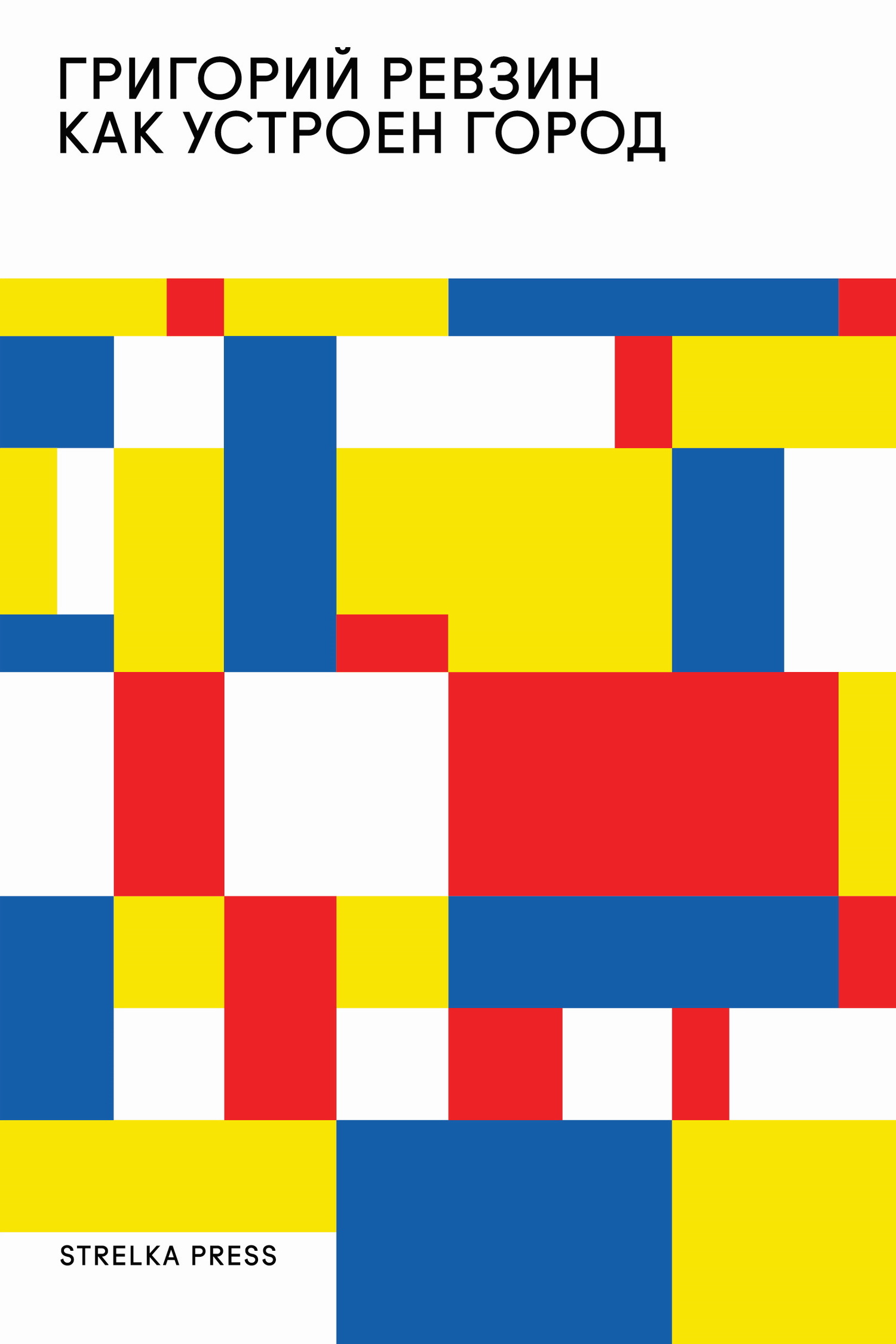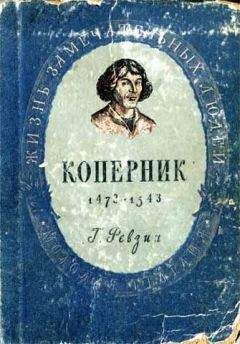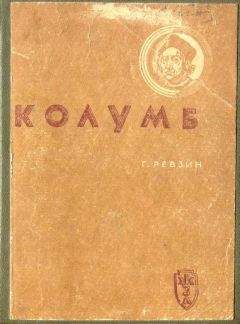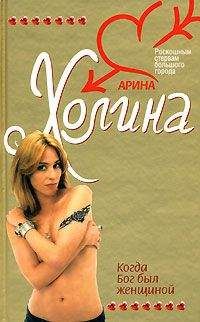учрежденной ей комиссией Ивана Бецкого, когда большинство из них получили регулярные планы. Этот грандиозный опыт можно связать с высказанной Александром Эткиндом идеей «внутренней колонизации» как основной стратегии российской государственности. Регулярный план был одновременно и средством модернизации страны, и признаком политического доминирования. Напротив, если мы сталкиваемся с постепенной утратой регулярности в городе – а это история большинства европейских городов, выросших на римской основе, – то перед нами след «ухода» власти из города.
Так происходило вплоть до ХХ века – и вдруг все перевернулось. Бесконечные новые районы СССР, отчасти Европы (Франция, Германия), Азии – колонизация спальными районами происходит в форме оккупации свободных пятен без всяких признаков регулярности. Напротив, квартальная застройка исторических центров начинает ассоциироваться со свободной городской жизнью, традициями и «правом на город» (термин Анри Лефевра 1968 года, акцентирующий права городских сообществ в противостоянии власти и спекулятивному девелопменту). Как это возможно?
Мне кажется, для ответа на этот вопрос стоит вспомнить, что в традиционном городе прямоугольник квартала застраивался сравнительно свободно. Мы встречаем там большое разнообразие форм – от городских вилл до многоэтажных домов-каре, от дворов-колодцев до парадных внутренних улиц. Свободная планировка спальных районов неотделима от стандартных жилых ячеек многоквартирных домов. Многоквартирный индустриальный дом – это регулярный город, сведенный в один объем, квадрат квартала, превратившийся в кубик квартиры. Именно поэтому, мне кажется, индустриальное многоквартирное жилье имеет достаточно ощутимый привкус репрезентации власти, и авторитарные режимы – как Россия или Китай – отдают заметное предпочтение этой форме расселения. Так власть становится ближе, интимнее: она приходит к вам в квартиру. По сравнению с этим клетки кварталов кажутся символами гражданских свобод и неформальных сообществ горожан.
Изначально слово «потлач» обозначало особый праздник американских индейцев. Термин приобрел популярность после 1921 года. Некто Дэн Кранмер, видный представитель племени кваквакэваквов из Британской Колумбии, устроил потлач на 300 человек. За пять дней он уничтожил все свое имущество. Он раздавал каноэ, моторные лодки, одеяла, керосиновые лампы, скрипки и гитары, кухонные принадлежности и швейные машины, граммофоны, кровати и письменные столы, одежду, деньги (желающие могут подробно прочесть об этом – в частности, в статье Никиты Бабенко «Потаенный потлач»).
Многие участники праздника оказались под судом.
Криминализация потлача – результат усилий миссионеров и благотворителей. После колонизации, когда индейцев свели в резервации, они оказались объектом постоянной благотворительной помощи: их учили, им строили дома, привозили одежду, мебель, посуду, лодки, орудия труда и т. д. С прискорбием дарители обнаруживали, что хотя индейцы ценят это, но не так, как хотелось бы. Они сохраняют дары в виде сокровищ, а в назначенный день сокровища раздариваются и уничтожаются. Это поведение подрывало надежду на то, что индейцы пусть постепенно, но когда-нибудь втянутся в цивилизацию и прогресс. Поэтому еще в 1884 году был принят закон о запрете потлача. Он не очень исполнялся, а к 1921 году чаша терпения переполнилась и был организован судебный процесс. Из 45 задержанных участников церемонии 22 отправились в тюрьму. Остальные согласились добровольно сдать танцевальные маски, церемониальные свистки и прочие ритуальные принадлежности потлача и получили условные сроки.
Жорж Дави в книге «Вера в клятву» (1922) первым предложил трактовку праздника – потлач как форма социального символического обмена. Потлач осуществляет вождь племени, он может концентрировать в своем распоряжении богатства постольку, поскольку растранжиривает их в момент потлача.
Сразу за Дави вышло знаменитое исследование Марселя Мосса «Очерк о даре», где потлач был осмыслен в контексте идей символической экономики. Потом Жорж Батай противопоставил потлач как «политэкономию траты» буржуазной «политэкономии накопления». Разрушение своего благосостояния по Батаю – это «микрорепетиция смерти», и тут случилось много интересных смыслов: критика буржуазности, романтика безумия, игра в самоубийство – после Батая потлач стал респектабельным термином. Ги Дебор, один из идеологов революции 1968 года, даже издавал в 1950‑х годах в Париже журнал «Потлач».
Но при всей значимости этих левых смыслов сравнительно внятным объяснением уничтожения ценностей являются именно идея Дави – социальный обмен и достижение господства. Действия Кранмера можно сопоставить с поведением другого известного персонажа, и в этом свете они становятся менее абсурдными.
В должности эдила он украсил не только комиций и форум с базиликами, но даже на Капитолии выстроил временные портики, чтобы показывать часть убранства от своей щедрости… Граждан, которые приходили к нему сами или по приглашению, он осыпал щедрыми подарками, не забывая и их вольноотпущенников и рабов, если те были в милости у хозяина или патрона… Крупнейшие города не только в Италии, Галлии и Испании, но и в Азии и Греции он украшал великолепными постройками… Зрелища он устраивал самые разнообразные: и битву гладиаторов, и театральные представления по всем кварталам города и на всех языках, и скачки в цирке, и состязания атлетов, и морской бой… Атлеты состязались в течение трех дней на временном стадионе, нарочно сооруженном близ Марсова поля. Для морского боя было выкопано озеро на малом Кодетском (Хвощовом) поле, в бою участвовали биремы, триремы и квадриремы тирийского и египетского образца со множеством бойцов. На все эти зрелища отовсюду стеклось столько народу, что много приезжих ночевало в палатках по улицам и переулкам; а давка была такая, что многие были задавлены до смерти, в том числе два сенатора.
Эти цитаты из Светония, повествующие о Юлии Цезаре, хрестоматийны. Не менее хрестоматийна и сама практика дарения властью праздников, зданий, вещей, еды и денег городу и горожанам. Гениальный Цезарь тут не отличается от безумного Каракаллы, а средневековые герцоги и короли, абсолютные и конституционные монархи не отличаются от римских императоров.
Принципиальной является идея экономической бессмысленности траты. Средства, потраченные властью на что-то нужное – направленные на повышение жизненного уровня населения, создание рабочих мест, инфраструктуру и т. д., – в данной логике смысла не имеют.
У Пушкина Борис Годунов сетует:
Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы —
Вслед за Годуновым такие сетования, я полагаю, произносят на заседаниях или в тиши кабинетов более или менее все властители, склонные к заботе об общественном благе. Однако эти меры потлачем не являются и в силу этого власть не укрепляют. Должно быть нечто утилитарно бессмысленное. В зависимости от экономической ситуации, даже общественного строя, эта бессмысленность может быть разной – от отсутствия утилитарной функции до экономической неэффективности, и подпадать под нее могут разные объекты – институты религии, образования,