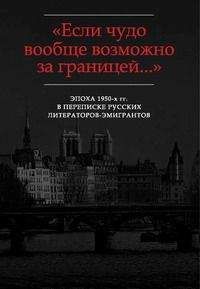Ну а вот ты: во имя чего и ради кого готов подставить под случайность, под выстрел всё, что осталось на Земле и что на планете когда-нибудь еще может быть?
Смешно сказать — ради Женщины. А еще точнее: чтобы Она могла тебя уважать и не ненавидела бы, не презирала. Всего лишь чувства, даже не чувства, а оттенки чувств — и такая цена! Значит, мы так устроены? Какой это из книжных героев терзался вопросом: ну а на другой планете, за тридевять планет от Земли, стыд будет ли мучить, если на Земле ты оставил, сотворил великую подлость? А ведь будет мучить! Хотя и ты землян, и они тебя — никогда друг друга не увидите. Ну а если бы вообще нуль остался, то есть никого? Стыд перед нулем возможен? Непонятное дело, но возможен ведь. Суд исчезнувших — всё равно суд. «Мнение» даже несуществующих — небезразлично.
А тут не кого-то там, за тридевять планет, а Ее мнение! Всё, всё понимаешь, тогда почему же поступаешь не по пониманию? Или заморочили тебя (и друг друга тоже) все они, разноголосо подающие команды из своих отсеков? Какую, чью выполняешь? Или чьи?
И куда они загнали главного алармиста? Совсем пропал голос моего СВН. Не Идеолога ли это работка — из-за спин услужливых реликтов? Но ему-то зачем мудрить, он скорее приказал бы наплевать на всякие дуэльные условности, напирал бы на историческую правоту, и, пожалуйста, без этого рыцарского и н те л л и гентн и чан ья!
Ладно, вообразим лучше руку Великого Драматурга: к финалу поторапливает, и без того пьеска, его последняя пастораль, затянулась.
Нет, кто бы вы ни были, и сколько бы вас не вмешивалось, а дуэль — это, по крайней мере, красиво. К барьеру, сэр! Звучит! Пусть красота, коль уж так сложилось, рассудит нас. Спасет или погубит. Раз за этим стоит Женщина.
Посмотрим, какая у тебя улыбка под дулом пистолета! Это не лазером тыркать в чужие корабли да ядерные шахты за тысячи верст. Пятнадцать — двадцать шагов! Кажется, так в романах? И самое главное — уклоняться, отклоняться запрещено кодексом чести. А вся наша профессиональная доблесть как раз в том заключалась, кто раньше и внезапнее пульнет, ловчее отклонится, перехитрит.
Я без конца нырял в окрашенный красным Луной океан, шарил в огненно-светящейся воде по камням, меж камней, в трещинах. Искал, может быть, собственную погибель, но так, словно в этом, только в этом спасение.
Ну а Она поверит, что дуэль была честной?.. И интересно — будет себя казнить, если меня подстрелят и сшибут, как мелкую фишку? Или он улыбнется белозубо, виновато, по-юношески, как это у него получается, и… Не думать, не додумывать. Главное, не додумывать!
Утром вздремнул на прохладных скалах, даже не глянув, а что там у них внизу: спят, наверное, голубки в гнездышке. Что ж, каждому свое. Когда История на твоей стороне и знаешь, что работаешь на нее, всё, даже нервы, в порядке.
Снова открыл глаза, а милые уже в море, уже резвятся в воде, что ж, нырнем и мы. Я даже сделал им ручкой. Нырял, нырял, а когда взобрался на скалу, увидел, что они письма пишут на нашем пляже. Что-то он чертит пальцем, отбегая в сторонку, а Она набегает, опрокидывает его на песок и ногой затирает его письмена, он мешает, а Она тянется затереть…
Всё, всё забрали себе, всё мое, всё наше!
Старался больше не смотреть в ту сторону, а когда не выдержал, посмотрел — нет их, ушли, должно быть, к водопаду.
Само дело, работа захватила, какой-то уже спортивный появился азарт: нырнуть поглубже, удержаться подольше у самого дна. Странно, ни одной рыбешки или краба не вижу, пустой океан, даже тоскливо. Просто я о них не думал, а теперь подумал — и сразу вот они, объявились. И как раз передо мной, как на экране, зависают большие рыбины, глаза в глаза. Но если так, тогда пистолеты должны бы давно объявиться: только и думаю о них. Сколько раз, казалось, видел, жадно хватал рукой камень, клочок мха, водорослей. Забираюсь всё глубже и глубже, очень болят уши, глаза.
А нашел на мелком месте, где и не ожидал: стал на дно передохнуть и нащупал ногой — будто током ударило! Оказывается, мы швырнули пистолеты недалеко, совсем близко отбросили от себя. И второй где-то здесь, та самая «курительная трубка», но пока радуюсь найденному. Нет, удобная и надежная штучка. Вот так прицелиться… А действительно забавно получается: старая рухлядь, еще двадцатых, наверное, годов, а убойная сила равна всем ядерным бомбам конца века: выстрел — и человечества как не бывало!
Это — если он уложит меня. Ну а если я его, то наоборот — путь в будущее расчищен!
Сколько ни нырял еще и еще, второй пистолет как испарился. Или второй и не нужен — по пьеске Великого Драматурга? Так даже больше испытания нашим качествам. Берем в руку по очереди: если не попал, надо подавить соблазн, великий соблазн выстрелить еще разок. Ты же не знаешь наверняка, как поступит противник, передаст ли тебе оружие. Не те времена, чтобы наверняка знать. Ну а Великий Драматург, он заранее все знает? Тогда это ему неинтересно. И какой же он творец? Если творит, значит, открывает ему самому неведомое. Элементарное условие.
Это про него: «Изощрен, но не злонамерен»? А уж что, ироничен, так это точно. Сколько было за историю сюжетов самых ироничных: словно Великий Драматург специально задавался целью разыграть этих умников землян как можно грубее. Наказывал за самомнение. А возможно, и мстя ревниво. За что все-таки и к чему нас можно ревновать? К разуму, полученному не по чину?
Вот и еще сюжет. Вроде бы всё в нем просто, ясно, ничего издевательского. Она любит его, а он любит Ее! Ничего, если не учитывать, что случай-то, «сюжет» — последний, а тот, кого Она выбрала (Великий Драматург демократичен, всегда оставлял нам выбор!), кого предпочла из двоих последних, из двоих возможных, — импотент.
Обессиленный нырянием, а еще больше мыслями, сомнениями, лежал я на теплых камнях, правая рука касалась металла, напитанного донным холодом, а мозг тоже казался тяжелым металлом, но расплавленным.
Вот как все повернулось, кто мог ожидать? Природа давила на Нее с вывертом, однако нормально: дети! дети! Но вот кто-то надавил и на природу, волевым, так сказать, решением заставил отступить, отступиться.
Всё в руце Великого Драматурга — и сцена, и актеры, и режиссура. Какая, однако, недобрая ирония под занавес: Медея, вообразившая себя Христовой невестой!
Что ж, если мне тоже оставлен выбор, я знаю, что делать, что я сделаю. Но до чего же они, женщины, действительно не такие, как мы! Вроде бы всё определено природой, и на века: род, продолжение рода должно быть и всегда были для женщины на первом месте. Сама любовь, может быть, только радуга, на которой извечно раскачивается детская люлька. И вот, пожалуйста, — Медея! Вот уж кто Всемедея!
А что, если Великий Драматург все-таки более наивен, чем коварен? Великий художник и коварство — совместимо ли это? Великий физик, каким представлял его Эйнштейн, да, но — художник?.. Но что, если это всерьез, если всё, всё, что было, вся история — лишь удобрение, навоз ради того, чтобы вырастить цветок по имени Любовь — и больше ничего? Для того лишь, чтоб сентиментальный Великий Драматург мог полюбоваться им, понюхать и погасить свет? И отвернуться к другим мирам, к другому времени?
Да нет же, не автор и не актер: автор знает всё, что «думает», как «чувствует» его герой, его герои, актер заранее читал пьесу и тоже знает заранее, играя, даже о целях других партнеров. А это как во сне: никто не автор своих снов, ты лишь участник события сна, один из участников пьесы. Мы — я, Она, Третий — его сны. Сны Господа Бога, а он тоже участник, один из участников своих снов, не знающий как мы себя поведем в следующий миг. Он нам оставил волю, свободу выбора. Он — Четвертый, один из нас.
Тут я почувствовал, что на меня смотрят. Человеческий взгляд почувствуешь всегда. Тем более на таком пустынном острове. И тем более, такой напряженный. Да, это он стоит и смотрит, Ее избранник. Действительно Дельтаплан — на равнобедренном, углом вниз (талия), треугольнике лежит маленькая для таких плеч головка. («Мальчик-слезь-со-стойки!» — был у нас лейтенант с такой кличкой, правда, узкоплечий, длинный как глиста, но с такой же ребячьей головкой, слышали или придумала братва наша, будто крикнула ему так барменша.) Но прежде и тебе это не казалось уродством — ни на староегипетских изображениях, ни когда только появился Третий на острове и тебе припомнились те самые египтяне. Ей тогда не нравилось всё в нем, а ты даже любовался. Теперь всё наоборот.
Но ведь смешно (умереть можно!), когда знаешь про этого красавца то, что знаю я!..
Стоит молча, ладонью оперся как раз на то место, куда мы когда-то, дурачась, стреляли. Смотрит на мою руку, покоящуюся на пистолете.
Да, да, тебе не примерещилось — пистолет, оружие!
Глазами я показал и на обойму, которую отложил на более нагретое солнцем место.