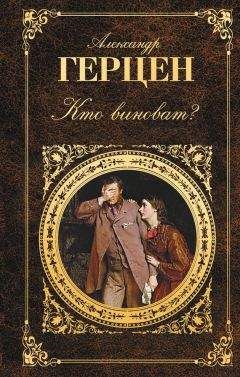наука веков, ученая традиция.
Это помещичье чувство строптивости особенно развилось у нас в петербургский период, в эту классическую эпоху насильственных образователей и беспощадных цивилизаторов. И тут странная смесь жалкого и возмутительного. Цивилизаторы очень часто откровенно и благородно стремились к добру, лелеяли мысль, например, об освобождении крепостных крестьян, готовы были жертвовать частью достояния, говорили об этом в то время, когда это было опасно, изучали западное сельское устройство… и вдруг, когда освобождение очью совершается, у крестьян открывается готовый быт, который они вовсе не хотят менять, им кажется это неблагодарной дерзостью, и натура русского немца берет верх… Та натура, в которой так и веет сквозь австрийского писаря и русского капрала татарским баскаком, которая, щуря безжизненные глаза и бледнея от бешенства, говорит без звука: «Да вы, кажется, рассуждаете, знаете ли вы, с кем вы говорите?» Или кричит раздавленным голосом, как псковский городничий путешественнику: «Молчать!» – только за то, что он в крестьянском армяке. Ведь и русский-то немец-цивилизатор за то и сердится на наш крестьянский быт, что он, в своем мужицком кафтане, не слушается его, одетого по-немецки.
Псковский частный пристав обижен тем, что человек, одетый по-русски, то есть состоящий вне закона, не подавлен его величием, властью, которую он представляет, воротником, который он носит. Доктринер скандализован тем, что его экономическая наука, наука Робертов Пилей и Гускисонов не находит беспрекословного повиновения, что ее, разработанную столетними усилиями, хотят обратить вспять к общинному владению, к коммунизму в лаптях. «Помилуйте, – говорит он, – что вы суетесь с вашим общинным устройством, как с последней новостью, оно было у Германов времен Тацита, общинное владение соответствует младенческому возрасту гражданских обществ и рассевается от лица просвещения, как тучи рассеваются от лица солнца, уступая высшим гражданским формам. Народы дикие любят общинное владение, народы образованные порядок». И голод, добавим мы, видя, как девять десятых населения не наедаются досыта, для того чтоб собственность развивалась правильно.
«Что же делать, таков закон общественного роста, народы должны пройти его фазами, каждая имеет свое неудобство, но зато и свой прогресс. Сначала дикие люди владеют сообща, посемейно, родами, потом развивается сильнее и сильнее право личной и наследственной собственности… Конечно, было бы хорошо, если б каждому можно было дать клочок земли, но так как на право собственности не все приглашены природой, то…»
Вот тут-то в самом деле нам становятся пути Провидения неисповедимы; для того чтоб несколько государств имели правильно развитую собственность, огромное большинство должно остаться без кола и двора! Библейским языком эдакий закон прогресса по крайней мере называется проклятием в род и род. Тогда уже знаешь, a quoi s’en tenir [210], и не обижаешься, а чувствуешь, что это справедливая месть божия за какого-нибудь Эноха или Иафета, что-нибудь напакостившего шесть тысяч лет тому назад… А тут признай я разумом, своим собственным разумом, что есть такой нелепый закон!
Откуда экономическая наука вывела этот закон? Она порядком знает только одно экономическое развитие германо-романских народов. Нельзя же по биографии одного человека составлять антропологию, хотя в ней непременно есть общечеловеческие стороны, но рядом и в связи с совершенно частными.
К тому же разве гражданственность, разве собственность в самом деле в Европе развивались нормально или по крайней мере беспрепятственно? Разве общинное владение и весь прежний порядок уступили внутреннему развитию, а не огню и мечу завоевателей? Или, может, феодальная система была крутой экономической мерой, эдаким цезаревым сечением, хирургически облегчившим нарождение правильной собственности?..
Но ведь и цезарево сечение не делается из подражания над здоровой женщиной, а только по необходимости. Зачем же народ, который никогда не был побежден, у которого не враги отняли землю, а свои как-то отписали ее, должен непременно пройти теми же фазами? Если же подражать, то давайте строить крепости в городах, на которые никто, кроме полиции, не нападает, будемте на ночь улицы запирать цепями и рогатками, пусть градской голова не спит, а ходит рундом, гласному бердыш в руки – это будет по крайней мере забавнее; а коли кто спросит, что мы делаем, мы скажем, что проходим феодальную фазу развития городской жизни…
Лет тридцать тому назад Н.А. Полевой заботился же о раскрытии в русской истории той борьбы двух начал, которая так ясно представлена Август < ином > Тьери в письме его о французской истории. Пора перестать ребячиться.
Не то важно, что у кельтов, германов, пожалуй, у кафров и готтентотов было общинное владение в диком состоянии, а то, что у нас сохранилось оно в государственный период.
А потому в настоящем положении дел серьезно можно поставить только два вопроса.
Есть ли личное, наследственное, неограниченное владение землею единственно возможное для развития личной свободы и в таком случае как спасти большинство населения, не имеющего собственности, от рабства собственников и капиталистов?
Есть ли, с другой стороны, поглощение лица в общине необходимое, неминуемое последствие общинного землевладения или оно относится к неразвитому состоянию народа вообще и в таком случае как соединить полное, правомерное развитие лица с общинным устройством?
Об этих вопросах мы просим наших читателей подумать.
Концы и начала
(1862–1863)
Когда, год тому назад, я писал «Концы и начала», я не думал их так круто заключить. Мне хотелось в двух-трех последующих письмах ближе означить «начала»; «концы» казались мне сами по себе яснее. Сделать этого я не мог. Строй мыслей изменился: события не давали ни покоя, ни досуга – они принялись за свои комментарии и за свои выводы. Трагедия продолжает расти перед нашими глазами и все больше и больше становится из частного столкновения введением в мировую борьбу. Пролог ее окончился, завязка сложилась хорошо; все перепуталось: ни людей, ни партий узнать нельзя… Поневоле приходит в голову образ дантовских единоборцев, в котором члены бойцов не только переплелись друг с другом, но, по какой-то метаморфозе, последовательно превращаются друг в друга.
Все юношеское, восторженное, от молитвы перед распятием до безрассудной отваги, от женщины, одевшейся в черное, до тайны, хранимой целым народом, все давно увядшее в старом мире, от митры и рыцарского меча до фригийской шапки, явилось еще раз во всем поэтическом блеске своем в восставшей Польше – как будто для того, чтоб украсить молодыми цветами старцев цивилизации, медленно двигающихся на борьбу, которой они боятся…
С другой стороны, начала едва пробиваются сквозь дым сожженных сел и городов… Здесь происходит совершенно обратное явление… все отжившее старого лира поднялось на защиту петербургской империи и отстаивает