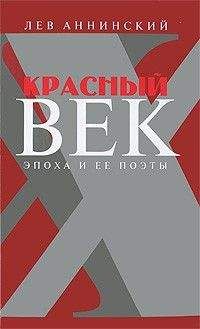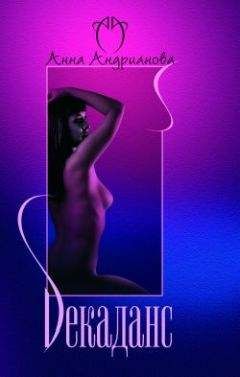Не давала забыть. Не давала подличать. Не давала лгать. Не давала отрекаться от того, во что верила.
Аура ее присутствия в нашей культуре — мощнее и сильнее воздействия отдельных ее произведений, за которые она получала Сталинские и прочие премии как за программные. Да и их смысл не так прост, если учесть трагический контекст истории, а он-то и был для нее главным. Программный смысл поэмы «Первороссийск», писавшейся с 1949 по 1957 год (а потом продвинутой на экран авторами фильма, переведшего сюжет в немыслимо-красочную киногению) — смысл вроде бы ортодоксально ясен. Но, если вдуматься, отдает миражем.
«В февральский вьюжный день 1918 года» рабочие Обуховского завода при одобрении и содействии Ленина отправляются на Алтай — строить первую настоящую коммуну — «Первороссийское общество землеробов-коммунистов». Сокращенно — Первороссийск. До этого люди «мечтали о городе Солнца, о фаланстере, о коммунизме». А питерские рабочие там, на отрогах Алтая, эти коммуны построили.
Так вот: все, что они там построили, немедленно уничтожено живущими на тех отрогах казаками. И ладно бы, уложилась беда в обычный стереотип, по которому во всем виноват все тот же Колчак. Но вот рассказчица идет по земле, на которой когда-то была коммуна, — идет, с трудом раздвигая дикие травы, и видит, как «выше человеческого роста вздымается конопля, источая удушливый запах мечты… и до колен поднимается полынь со страшным запахом разочарования и горя… и в лицо плещут лебеда и бурьян», поглотившие «землю дерзаний, землю мечты», — тут уж начинают действовать поэтические обертона, явно превышающие мысль: и наркотический эффект слова «конопля», и темень Чернобыля в слове «полынь», словно учуянная за десятилетия то того горя…
Может, не белоказаки-колчаковцы — главная преграда на пути к мечте, а та дикая и вечная природная материя, в которой увязла «дерзновенность коммунаров»? Может, именно с природой, с косной натурой фатально борется гордый дух? И спешит он «скорей свести с природой счеты», — как сказалось в ранних стихах Ольги Берггольц? А что, если это, гегелевски говоря, дурная бесконечность? То есть: первая коммуна разгромлена, за ней вторая, третья (всё — питерские пришельцы), на их костях эпоху спустя организованы колхозы (один из них назван: «Первороссийск»), но, как бы в насмешку над дерзновениями, все эти земли еще эпоху спустя очередными строителями коммунизма назначаются к затоплению.
Автор поэмы «Первороссийск» получает приглашение на праздник открытия Бухтарминской ГЭС — присутствовать при рождении рукотворного моря, которое вот-вот заплещет «над коммунами».
Вот-вот заплещет, думаю, в сознании рассказчицы водоворот, который уже крутится в моем читательском подсознании: а не заложена ли в таком развитии сюжета некоторая… скажем так, абсурдность?
Да ни тени! Весточка, присланная из поездки, звучит как стихотворение в прозе, продолжающее поэму и лишь случайно реализованное в жанре телеграммы:
«Прости молчание совершенно здорова закружилась встречами разъездами очень счастлива».
Счастье равновелико испытанию. Победа равна гибели.
Только одно ощущение изначально и окончательно немыслимо для Ольги Берггольц: ощущение абсурда.
А я вам говорю, что нет
напрасно прожитых мной лет,
ненужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.
Написано — как прямой ответ на вопрос о бессмысленности происходящего.
Один только раз жизнь ввергла Ольгу Берггольц в ситуацию, полностью для нее абсурдную.
«В 1937 году меня исключили из партии, через несколько месяцев арестовали. В 1939-м я была освобождена, полностью реабилитирована».
И ни слова больше об этом в «Попытке автобиографии»! На фоне обильных описаний других жизненных эпизодов такой лаконизм становится художественным неответом: абсурду нельзя отвечать!
У Анны Барковой вера вывернулась наизнанку при аресте и приговоре, Заболоцкий душу вручил «созвездьям Магадана», Борис Корнилов смертное предощущение в стихах оставил…
Может, из-за Корнилова и попала в мясорубку НКВД его нераскаянная вдова? Неведомо. Молчит муза под взглядами дознавателей. Немота — ее ответ[70].
И все-таки глухие намеки можно уловить в стихах 1937–1939 годов. «Сколько раз посмеетесь, сколько оклевещете, не ценя, за веселую скороговорку, за угрюмство мое меня?.. Я-то знаю, кто вы такие, — бережете сердца свои… Дорогие мои, дорогие, ненадежные вы мои…»
Словно в засаду попалась, не знает, откуда и почему стреляют, самое трудное — определиться…
«Что же, друг мой, перезимуем, перетерпим, перегорим».
А может, вместе со своими — в каком-то тайном засадном полку?
«Я не знала, зачем Ты это испытание мне дала. Я не спрашивала ответа: задыхалась, мужала, шла…»
На Ты она — только с Родиной.
Считанные недели спустя, в июне 1941 года, это «Ты» еще раз возникает в стихах, и ситуация, наконец, раскрывается: война угрожает гибелью Городу и Миру (родному городу, сразу оказавшемуся прифронтовым, и миру, окончательно рухнувшему в мировую войну). Абсурд перечеркнут долгожданным ощущением великого Смысла:
Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!
Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала…
Он настал, наш час, и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — я не могу иначе,
я и Ты по-прежнему — одно.
Наступает звездный час. Близятся девятьсот дней. Великая женщина столетия встает навстречу судьбе.
«Казалось, мы до сих пор не знали ее», — всматривается Николай Тихонов.
Из воспоминаний Веры Кетлинской, направившей Ольгу Берггольц от Союза писателей в распоряжение ленинградского Радиокомитета: «Я не подозревала, что она станет самым необходимым и любимым поэтом ленинградцев». А вот — ее портрет 1941 года: «Она ощущала каждую бомбу и каждый снаряд направленными прямо в нее… и все же ходила, не прячась».
Бомба и снаряд вместе — это еще «общий план». Вот когда бомбы и снаряды жители начнут различать по звуку и смыслу… но это к осени.
В последний день лета — 31 августа 1941 года — перерезана последняя железная дорога, связывавшая Ленинград со страной. Немцы бросают листовку: «Штык в землю! Ждите серебряной ночи». Загораются бадаевские склады — маслянистый дым закрывает солнце. Блокада — ночь.
..Ночь. Триумфальной арки колоннада,
и у костра — красногвардейцев взвод…
Сегодня на защиту Петрограда
вооруженный выступил народ…
Ленинград осеняет себя Петроградом. В речи все чаще — слово «кольцо». 7 сентября первая бомба взрывается на улице. В речи все чаще — слово «штурм».
Мы будем драться
с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей.
Прекращено движение по улицам. К свисту бомб добавляется грохот орудий. Полевых орудий— все понимают, что это значит. «Фронт — за пустырем, за тем забором». У подъездов домов — бутылки с бензином — на случай прорыва немецких танков.
Всем, что есть у тебя живого,
Чем страшна и прекрасна жизнь, —
Кровью, пламенем, сталью, словом, —
Задержи врага, задержи!
Немцы вносят Ольгу Берггольц в черный список: эти будут расстреляны сразу же по взятии города.
Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была…
Телефонная связь еще работает. После очередного обстрела — звонок: — Вера, ты жива?.. Это в твоем квадрате? — Нет пока… Ой, в моем!.. — Грохот разрыва, трубка брошена, из нее несется:
— Вера! Вера!! Вера!!!
И мужество сердцам да не изменит,
скорбь о погибших да не замолчит.
В своей крови,
в своей предсмертной пене
вы сами захлебнетесь, палачи!
Немцы отменяют штурм и начинают осаду. Гитлер объявляет: «Мы не штурмуем сознательно. Ленинград выжрет самого себя». То есть: голодные люди озвереют и вцепятся друг другу в глотки.
Вот так, исполнены любви,
из-за кольца, из-за разлуки
друзья твердили нам: «Живи!»
Друзья протягивали руки.
Единственной связью с миром становится радио. Точки связи — фонарные столбы, которые высятся среди сугробов: к ним по утрам стаскивают трупы для опознания, под ними затихают дистрофики, держась из последних сил и сползая. На столбах — черные раструбы радиорепродукторов. По радио — никакой музыки — музыка долетает только из немецких блиндажей: фанфары, объявляющие «голос штаб-квартиры фюрера», да фокстроты со щебетом влюбленных. А в ленинградском эфире — только военные сводки и литературные передачи. Глава за главой — «Илиада» Гомера. «Педагогическая поэма» Макаренко. И — стихи…