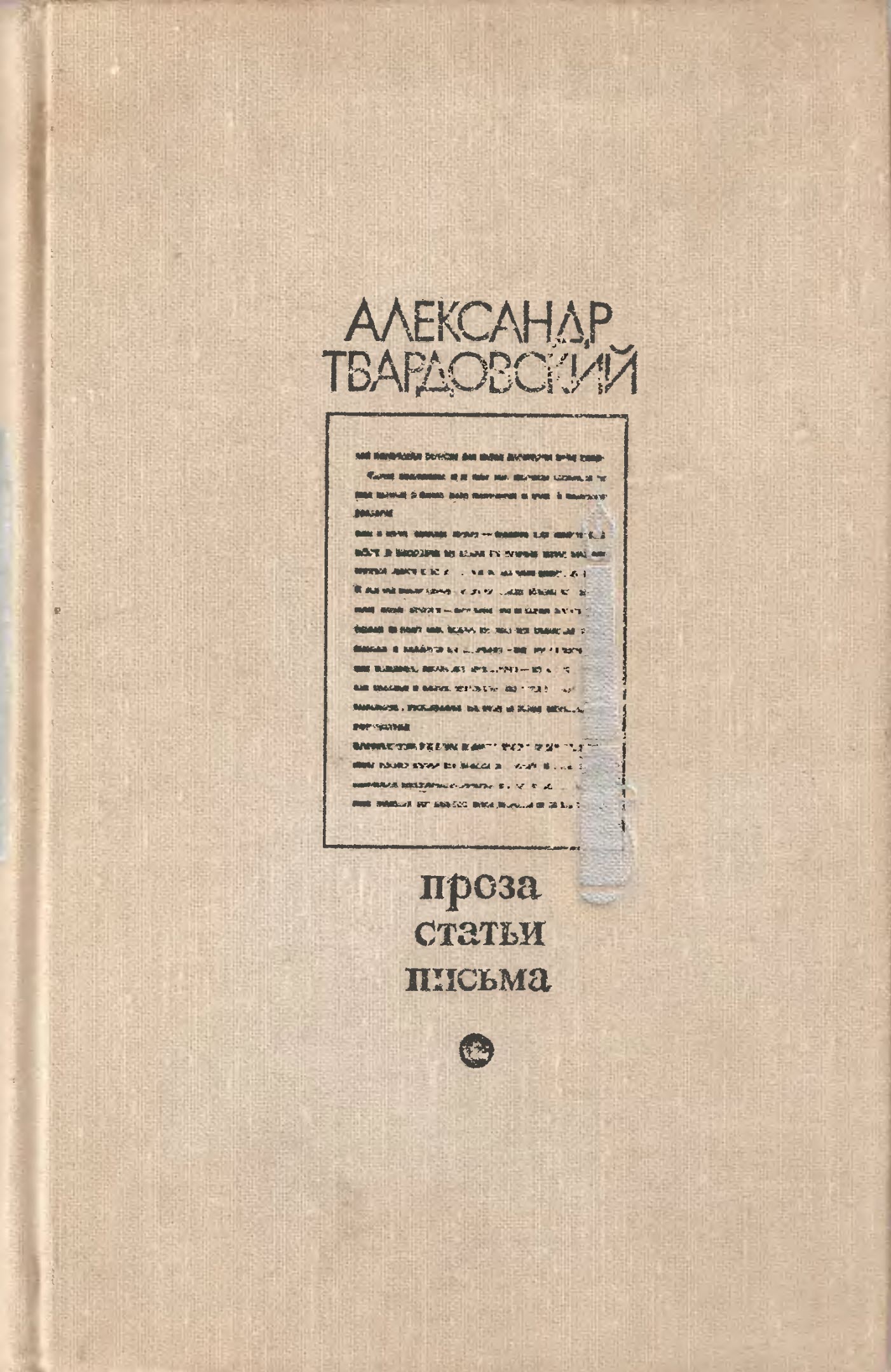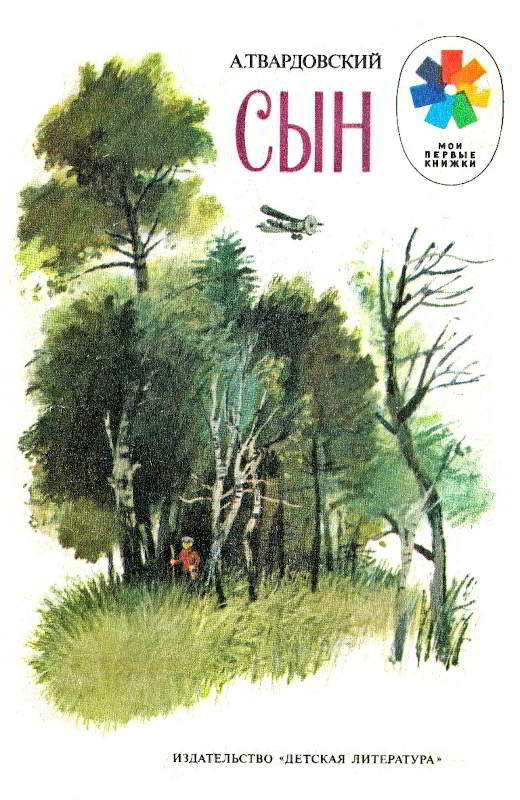в сводке Информбюро выступала. — И, прислушиваясь, поспешила объяснить беспокойство Прохорова — Знаете, наши ребята ничего не боятся, но самолетов не любят. Я сама скажу — боюсь до смерти. — Звук самолета стал отдаляться, и она заговорила с оживлением и даже веселостью — Меня один вокруг колодца гонял. Днем.
С одной стороны сухо, колодец на скате, а с другой лужа, грязь. Как мне с той стороны ложиться, так в грязь. Вывалялась вся, как чучело. И не могу догадаться платок спрятать, платок на мне красный. Ну, так вот… Рапида устанавливается так, чтобы произошло соединение, когда колесо паровоза в данной точке соприкасается с рельсом. Это дело несложное, но при установке нужна большая аккуратность, и большое, — с наставительной серьезностью девочки-ученицы подчеркнула она, — большое присутствие духа. Да. Потому что такой участок дороги всегда охраняется. Тут и обход регулярный, и вышки с пулеметами, и гарнизоны, — вы видели, каких они тут крепостей понастроили, сколько одной проволоки накручено. А второе — что на полотне человек очень заметен, издалека даже. Я, первый раз когда влезла на полотно, думала, что я три часа там возилась, а это всего полторы минуты… Что это он? Опять?
Мы вместе прислушались. Самолет шел обратно на той же высоте, даже как будто ниже.
— Транспортный. — Она легонько тронула меня за руку. — Слушаем, слушаем, а это же транспортный. Это он своих окруженцев ищет. Почему только он их здесь ищет? Хотя здесь лесок порядочный!
— Страшно? — спросил я, чтобы обратить ее к рассказу.
— Да, нехорошо, конечно, если они здесь так близко. Главное, они оба лежачие, — она кивнула на дверь. — А вы про другое говорите — страшно? Я расскажу. Я расскажу, как первый раз была на задании.
Я очень хотел слушать, но меня отвлекал еще один запах, кроме запахов разных цветов и гари, запах знакомый и даже приятный, но как-то не идущий к окружающей нас обстановке.
— Запах? — Она подняла свое бледное личико, на котором теперь не видны были песчинки веснушек. — Это хлебом пахнет.
— Нет, хлебом, рожью — это отдельно, а вот еще чем-то.
— Я вам говорю: хлебом пахнет, а не рожью.
— Да, пожалуй, верно, горелым хлебом.
— Не горелым, а печеным хлебом. — Она усмехнулась: — Это вы в лесу без хлеба не сидели, а то бы не путали… Тут, наверно, недалеко походная хлебопекарня. Да слушайте вы, — с каким-то даже испугом она наклонилась ко мне, — вы просто есть хотите. А я тут болтаю. Это мы сейчас организуем.
Я поспешно отказался, очень довольный тем соображением, что неподалеку должна быть полевая хлебопекарня. Это как-никак воинская часть, а следовательно, мне уже нечего было задумываться о ночлеге и прочем.
— Было это зимой, в сорок третьем году, — продолжала девушка. — Мы тогда находились в распоряжении «Истребителя», но где этот «Истребитель» находится, я не знала, конечно. Мы получили задание от нашего командира. Со мной шли двое хлопцев. Они выпили, потому, что очень волновались, а я — ничего. Если я иду на смерть, значит на смерть, — зачем же заранее изнуряться? — Это было сказано с той же беззаботностью относительно моего доверия или недоверия. — Страшнее всего знаете что? Ждать взрыва. Страшно, что вот он сейчас ухнет над тобой, и страшно, что никакого взрыва не будет. А мы уползать далеко не могли, мы должны дождаться взрыва и, как положено, обстрелять подорвавшийся эшелон зажигательными, добавить паники. Но еще страшнее, что взрыва не будет, что что-нибудь не так. А пока его нет, как бы там все аккуратно ни было сделано, все равно как бы ничего еще не сделано. Словом, такое состояние, что лежишь и рубишь зубами — ждешь. А когда по звуку от земли слышишь, что поезд идет и рельсы еще за два километра начнут пощелкивать, так это все равно как на тебя бомба идет, и по звуку ждешь — вот сейчас, вот сейчас… Н-ну!.. Дайте мне папироску, если еще есть. Я отнесу Прохорову, он спокойнее будет.
Я дал несколько папирос для раненых. Она наклонилась к спичке, держа папиросу в вытянутых с детской старательностью и еще более побелевших губах, и я опять увидел ее веснушки и слабо очерченные, светлые брови. Она легко поднялась, и, легонько опираясь на винтовку, ушла с прикуренной папиросой, и быстро воротилась.
— Ну вот. Слушайте. Как мы смотрели на всякий эшелон, что шел в ту сторону, к вам, к фронту! Мы имели радио, почти все сводки слушали, знали, что там делается, под Вязьмой или где. И вот, глядишь, несется туда составище — танки, пушки, ящики с боеприпасами, бомбы одна к одной, в сквозных футлярах. А ты глядишь и считаешь. Да если бы польза самому поперек рельсов броситься — с радостью! И это не то что я такая сознательная, а всякий наш человек так только мог думать, и вы сами так бы думали и так переживали.
Она достала откуда-то из рукава курточки платочек — как-то странно и трогательно было видеть это — и, заслонясь рукой, вытерла глаза, стараясь заслониться и этим жестом, и своей беззащитной улыбкой из-под руки.
— Да. Эти двое хлопцев, что со мной были, они действительно волновались, а одного, по кличке Олег, кашель разобрал. Не может остановить кашель. Тогда я велела этому вот, Прохорову, — кивнула она на дверь, — полушубок расстегнуть и чтоб Олег ему в за пазуху кашлял. Но все равно мне кажется, что слышно за версту — бьет, как из бочки. И они просят: «Разреши нам еще из фляги потянуть», — как дети, право. А я — нет и нет. «Нет, вы лучше после выпьете». И это все шепотом. А тут поезд — слава тебе господи, как по расписанию! А то уже минут десять оставалось до очередного обхода охраны. Н-ну!
Она глубоко вздохнула и выдохнула воздух. Воспоминания эти, по-видимому, были ей самой в новинку. Она как будто вернулась в свою Тулу, стала опять девчонкой, дочкой своей мамы, и рассказывает о том чудесном и страшном, что она испытала за эти два с лишним года в далеком партизанском краю, уже сама немало дивясь тому, что ей пришлось испытывать.
— Взрыв был такой, что, правду сказать, я думала, что ни земли, ни неба не осталось на свете. Это и был первый мой эшелон и, может, самый серьезный из всех шести эшелонов. Двадцать восемь «пульманов», как один, к черту, и дорога на сутки из строя вон! Об этом и в сводке Информбюро сообщали. Ну, ладно. А что было потом,