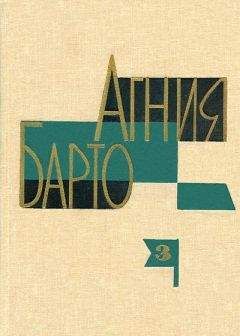навлечёт на неё Божий гнев?
Где б ты ни был, душа моя знает,
чт[?] с тобой, мой родной человек.
Ей ни зной не помеха, ни наледь -
связь незыблема. Это - навек.
* * *
Душа моя - не судно на приколе,
она всегда с тобою. Наизусть
я знаю твои радости и боли,
я постоянно чувствую твой пульс.
Сейчас ты на краю земли, и сердце
твоё идёт на убыль, как луна.
Я о тебе, своём единоверце,
и вдалеке заботиться должна.
Стремясь скорее обратиться
в завтра,
сегодня мчит вперёд во весь опор.
Мне холодно подчас,
а то вдруг жарко -
тебя я ожидаю с давних пор.
Не тратя сил на горестные стоны,
жду, чтоб ко мне привёл тебя
твой путь.
У мира свои мерки и законы,
и не пытайся их перешагнуть.
Чего я жду, придёт по Божьей воле,
и в этот миг я радостью упьюсь.
Дай знать мне твои радости и боли,
дай постоянно чувствовать
твой пульс.
Перевод Георгия ЯРОПОЛЬСКОГО
Двери
ПРОЗА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Борис ЧИПЧИКОВ
Родился в 1948 г. в Киргизии, живёт в Нальчике. Автор книг, написанных по-русски и по-балкарски: "Возвращайся свободным", "Улыбается Боже", "Нерестились рыбы в лунном свете", "Мы жили рядышком с Граалем" и др.
В дом влетела тётка: - Быстрей собирайся... Умер Асхат... Автобус ждёт... Давай быстрее... Поехали на похороны...
"Поехали на похороны", - застряло в голове и удивило своей нелепостью. Ехать на похороны. На похороны надо идти.
- Ты езжай, я сам доберусь, - сказал я. Сказать-то сказал, да забыл, что на дворе февраль, холодина, ветрище с ног сшибает; а идти надо в ущелье соседнее.
И я пошёл. Несло меня ветром по ледяной дороге, штормовка и свитер не грели, и запоздало подумалось о шубе.
А вокруг уныние: снег, замёрзшие скалы, ломкие стебли прошлогодней травы, и лес, чёрным пауком впившийся в серую муть неба. Здесь, наверное, никогда не было людей и никогда не будет, и ветер никогда не утихнет, и мне никогда не дойти.
Кавказ, апельсины, пляжи, золотые пески... Да полно, это ж литературные выдумки, враньё. Это какая-то Сахара, убитая ветром и морозом.
Кунак... Почему-то злило именно это слово. Какой там кунак? Для того чтобы был кунак, нужен дом какой-никакой, а здесь... Еле передвигаю ноги, подбадривая себя энергичным словом "идти"; шёл и бормотал - идти, идти, потом и это надоело; всё - ни назад, ни вперёд, ни домой, ни на похороны, лечь на снег, и всё... Лёг и вижу: на вершине горы - кошара. Полз я на гору бодро, там тепло, там что-нибудь прояснится. Стакан чая и тёплая шуба вырвали меня из серого ничто, и я с удовольствием слушал речь чабана: "Пойдёшь направо, потом налево, большая часть пути позади, а теперь дорога всё вниз и вниз и сама выведет к жилью".
Пожалел чабан и дал мне лошадёнку, не жеребёнок уже, но и до лошади ей далеко. На мне шуба, и я на лошади - значит, доеду. Рано радовался - дорога и вправду вниз и вниз, да сплошным льдом покрытая; на лошадь не сесть, вот и пришлось мне тащить и себя, и это существо непонятное - не лошадь и не жеребёнок. Вначале дорога была одна, потом раздвоилась, потом третья, четвёртая появилась, и я перескакивал с одной на другую, выбирая менее обледенелую, но таковой не было. Начал уставать, шуба не грела, лицо, обожжённое ветром, то нестерпимо чесалось, то болело до крика. Дорог много, и не все они ведут куда мне надо, думал я, коченея, перебирая ногами, помахивая руками, потирая то грудь, то лицо, и случайно увидел в стороне от дороги столбы с проводами, - значит, они и приведут меня к жилью.
Приободрился и, когда спустился на ровное место, даже вскачь пустил лошадёнку, и в сумерках подъезжал к дому умершего.
Умер человек.
Говорили, что дней за пять до его смерти обступили, облепили, нависли над ним женщины, кто в сером, кто в чёрном, а кто и вовсе в красном, и не умереть ему не было никакой возможности. Умер человек, близкий человек, вот холмик земли, а мне не верится, и нет во мне горя.
И не я один такой неверующий, мне казалось, что все люди, много людей тоже не верили.
Всё было буднично, резали скот, мужики, будто стекольщики, тщательно разделывали туши, женщины спокойно и буднично раскладывали по кулёчкам конфеты, спорили, зачем, мол, три "Кара-Кума" кинула в тот кулёк, надо было в этот. Дымились во дворе громадные казаны, люди ели, улыбались, говорили о сене, о баранах, зарезанных и ещё живых. Во дворе собрались дети, большие и малые, им раздавали конфеты, один наклонялся к другому: А тебе какую конфету дали? А мне вот эту.
Смотрел я на них, смотрел и заплакал, подумалось: на таком маленьком кусочке земли умер человек, и тут же жизнь будущая шумит, толкает друг дружку. Как же я тогда ошибался - плакать надо было, но о том, что быстро жизнь выросла на том самом маленьком кусочке земли, где только что умер человек, жестокие, въяве видимые ростки прорастали...
Но не мне упрекать, прошло уж больше десяти лет, а я и сейчас не верю и никогда не поверю, что он умер.
Помню его стоящим средь выцветших посеревших скал, и в ковшике его мягких ладошек горит барбарис, а в глазах мальчишечье ликование - смотри, как много я собрал.
На могилу не хожу, но каждый год, каждый месяц, всегда, когда есть время, прихожу на то место, где он стоял средь выцветших серых скал и в ладонях горел барбарис, по-мальчишечьи светились глаза.
Развожу костёр, я пришёл к живому, я не верю, что он умер.
Рядом берёзовый лес - чудо, средь скал и вдруг - берёза, здесь она светлее и значительнее, чем на равнине.
Падают листья, но разве деревья плачут по мёртвым листьям - они светло и нежно расстаются на время и машут ветвями вслед улетающим листьям. Я иду по белому лесу, любуясь горящими кустами шиповника и барбариса и говорю с живым, близким мне человеком. Вот в это верую, и я верю, говорят его озорные мальчишечьи глаза. И мы тихо идём и слушаем, как с белых деревьев опадают жёлтые листья.
Похоронили Асхата. Странная судьба у человека: автобус их, полным-полнёхонек, врезался в грузовик, и погиб только он.
Дети остались, жена, мороз и ветрище, а человека не стало. Ночь, темень, устал я, голоден и слаб. Оставайся, говорили родственники, но я решил ехать сейчас. В темноте я еле различал ещё более чёрные столбы. Ехал в каком-то забытье, ехал, тащил в гору лошадёнку, потом снова ехал, впервые на лошади; тело ныло, в голове ни мыслишки; я стал забывать, откуда и куда еду. И вдруг, в миг единый, вспыхнула луна, и всё вокруг посветлело, грязные проталины не выглядели грязными, а читались как значительные многоточия; осветился лес, стал виден каждый ствол, каждая веточка; скалы, дальние и ближние, купались в белом и голубом свете; каждая былинка, торчащая из снега, казалась думающим существом, не стало большого и малого, всё вокруг спаялось светом лунным в единое и неразрывное; и от целого этого стекало и вливалось в меня что-то такое, от чего пошли мурашки по телу; я не был оторван ни от гор, ни от снега, ни от былинки, - я стал частью округи, и мелькнула мысль - даже если я умру сейчас, то у меня вырастут корни, стану я чем-то другим, иначе буду называться, но выпасть в никуда я просто не смогу, и замёрзнуть - не замёрзну.
Ветер исчез куда-то, но было холодно не от мороза, меня колотило и било в седле от осознания того, что я не просто сам по себе, а часть чуда. Случайно на тёмной скале я увидел громадное зеркало и, замерев в ужасе, долго смотрел; а всё было просто - в скале дыра и голубое небо, какое-то совсем дневное, и кусочек этой голубизны дивным зеркалом казался. Я даже подъехал поближе к зеркалу: меня затягивала эта голубизна, и хотелось в ней раствориться. Лошадь с любопытством повернула ко мне голову, и в её громадном всемудром глазу уместилась луна, и смешным и нелепым показался я себе, восседающий почему-то на существе, в чём-то равном мне, а в общем, гораздо более чистом и безгрешном, чем я. Ощущение было такое, будто округа трясётся, вышибая из меня тёмное, и всё это нечистое выходит из меня с болью через торчком стоящие волосы. Вот он, Кавказ, такой, как тысячу лет назад, и он совсем не изменился. Это моя земля, и впервые, в миг один понял, что она и кто я. Она рассказала и о себе, и обо мне, и о тех, кто был до меня и кто придёт после. И снова Кавказ громадный, как космос, и все миры вместе, и я понял, что Асхат не в земле, а где-то среди белого и голубого покоя, и понял я: умереть нельзя, ибо нет смерти.