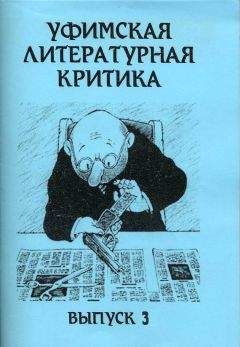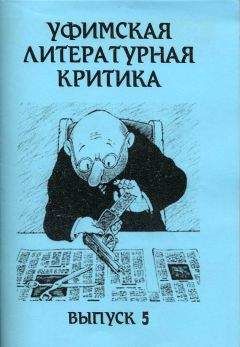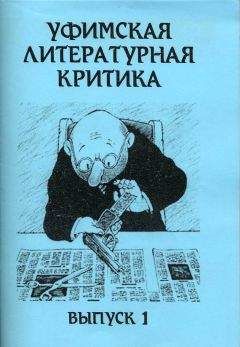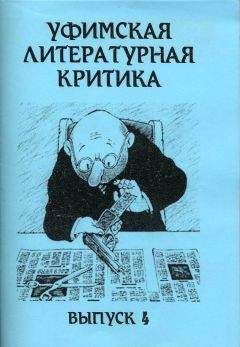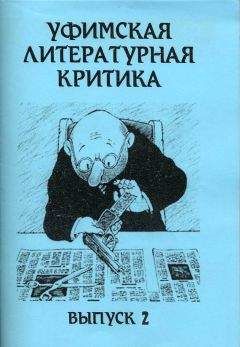Попробуем, наконец, разобраться, что же такое – фэнтези?
Каждый из видов фэнтези имеет свои традиции, историю, своих читателей. Вообще, в последнее время в фэнтези намечается тенденция к смешению стилей: героический жанр переплетается с «ужасами», юмористический жанр зачастую используется фоном для фэнтези-детектива. Существует множество журнальных изданий, специализирующихся на литературе и критике фэнтези. Интернет также располагает многочисленными сайтами, предлагающими информацию об авторах фэнтези, о художниках-иллюстраторах, о новинках жанра. Иным словом, фэнтези – явление многогранное и небезынтересное. Читать её или не читать – личное дело каждого. Ясно одно – жанр этот существует и развивается, а стало быть, имеет право на жизнь.
Александр Леонидов
«Светлые сполохи “Жабьего лета”»
В ХХI веке Уфа много пишет о Мезенцеве, полюбившемся многим литературном герое, Гаргантюа и Пантагрюэле, Паганеле и Ходже Насретдине нового времени в одном лице. В творческом развитии самого Ренарта Шарипова Мезенцев играет очень важную роль: это такие запоминающиеся, пронимающие до костей, пронзительные вещи, как «Экстернет», «Рикша в иномирье», «Мезенцев разбушевался»… Не отрицая художественных достоинств этих произведений, ставших вехами Мезениады-XXI, все же рискну предположить, что такого накала страстей, такого высочайшего звука струны творчества, таких живых и полнокровных характеров не знала прежде ни одна шариповская книга.
«Жабье лето» вошло в мезениаду особняком, с особой статью и насыщенностью, с особым неповторимым колоритом. Нигде в других произведениях – пусть добротных, захватывающих, остросюжетных и глубоких – мы не встретим столь ясно очерченной авторской индивидуальности, авторского лица Шарипова, которого не спутаешь ни с кем из прежде писавших.
Небольшое по объему произведение вобрало в себя целый мир волшебного художественного слова. В «Жабьем лете» Шарипов преодолел свой «постмодернизм», выходя в неведомые дали новой жанристики, гиперболического реализма, фантасофии. Произведение, подчиненное, кажется, динамичному и острому сюжету, при внимательном прочтении оказывается остросоциальным, вместе с проблемами будущего поднимает и проблемы сегодняшнего дня.
Уже с самого начала, с мастерских описаний непогоды и урбанистического пейзажа проступает неподдельное страдание «маленького человека», «негероического героя» повести, которого влечет неумолимый рок – и Мезенцев!
Сопоставляя Санта-Клаусов и Дедов Морозов, Шарипов поднимается на мета-уровень осмысления города и его праздников, на уровень социальной притчи. Героя повести пугает недобрая новизна подступающего искусственного мира, он вспоминает детство, минувшие дни, в коих жаждет обрести и не находит опоры. Шариповский герой сражался – и безнадежно побежден серой, выматывающей пустотой обыденного быта, сожран бытовухой. Но уже сломленный и капитулированный, как умело, точно и лаконично, не в бровь а в глаз мстит он этой бытовухе острым и метким словом-афоризмом!
История, большое и малое, увязаны у Шарипова удивительно гармонично, так, что слово, буква, запятая несут бездну смыслов и ассоциаций. Простая фраза может в четырех словах подать образ эпохи:
«Потом я пошел в школу, потом умер Брежнев, а потом мой дед…» – пишет Шарипов, скрадывая за простотой стиля тугую натянутую струну, живущую в сердце почти каждого его современника. Или вот – одним мазком, как на картинах восточной школы живописи – современность интеллектуала России рубежа веков:
«Глядя в единственное яркое пятно в этом сером, свинцовом мирке – ящик корейского телевизора, я с мазохистическим наслаждением матерился…» – точно, как выстрел, как диагноз. За каждым словом – пропасть информации, за что не схватись! Вот к примеру – этот образ яркого пятна телеэкрана в свинцовом обрамлении мира… Или корейский – не японский, не германский – классом пониже телевизор мазохистически изводящего себя рефлексией потерянного и тонущего в бытии человека…
В «Жабьем лете» Шарипова сам Мезенцев преодолевает свою демоническую природу, шутовской колпак с него снят, Гаргантюа и Насретдин сменились «Deux ex machina» в лице долгожданного академика, избавителя от серости, сурового борца, изымающего душу героя из «ада кипящего свинца обыденности». Явление Мезенцева в «Жабьем лете» – одна из самых ярких фантасмагорий, в ряду которых – Босх, Брегель и Сальвадор Дали. Нигде Мезенцев не предстает в такой живости и образности, в такой желанно-пугающей истоме, как в мире унылого героя «Жабьего лета». «Крепко сбитый старик Мезенцев, академик с кержацким выговором, алкоголик и сквернослов» Шарипова – образ спасительный, как круг для утопающего.
Автор вслед за Герценым имеет право сказать: «Мы не врачи; мы – боль!». Его перо – один из лучших диагностов этой боли перелома веков, боли технотронного, изощренно умерщвляющего человека времени. Но если сам Шарипов не врач той боли – он гением литературного предвосхищения умеет показать, нащупать, выпукло выразить умелого лекаря. Скупые строки «Жабьего лета», роняя нас в бездну отчаинья, все же находят в себе силы вместе с Мезенцевым вознести нас из тьмы и скорби к свету, радости, полнокровному человеческому бытию.
Мы уже говорили, что в образе Мезенцева причудливо переплетаются лучшие образы Рабле, Жюля Верна и народных анекдотов про Ходжу Насретдина. Но «Жабье лето» может претендовать на добавление в этот ряд софиономики Достоевского и Ницше. С Федором Михайловичем роднит повесть то рубежное, заостренно-экзистенциальное, эсхатологическое умонастроение большинства персонажей, та разверстая бездна смыслов, в которой они пребывают, одновременно «живя и символизируя». Ницше напоминает тот заряд воли и жизнелюбия, то поистине сверхчеловеческое умонастроение по ту сторону добра и зла, которое мы встречаем у Мезенцева в «Жабьем лете». Нигде допрежь не смотрелся он так отчетливо, так ярко сверхчеловеком (а не богом, полубогом, демоном, как в остальной мезениаде), этапическим героем эволюции человеческой воли и психологии.
Мезенцев шагает в вязкой, но податливой среде: она расступается перед ним и никнет, а следующим шагом – боготворит за избавление от неумолчного томления тоски. Именно так следует понимать вовлечение таксиста в аспиранты – один из кратких, но сильнейших по накалу эпизодов. Здесь есть нечто от евангельского, от мытаря, бросающего деньги на дорогу и идущего за Учителем. Но каков Учитель? Тот ли? Или новое время в качестве платы за выход из тоскливого ада серого быта, ада унылого выживания возьмет как плату поклонение иным силам?
Проблема ключа души разворачивается в «Жабьем лете» в объемную панораму. Всюду грань, острота – и в требовании Мезенцева признать самое себя безгрешным, и в той беспощадной честности автора к любимейшему персонажу.
Этот ключ души отмыкает сокровенные уголки её всяческим гуру, лжеучителям и сектантским, зомбирующим вожакам – вот социальный пласт повести. Этот ключ души отмыкает проблемы смыслов и экзистенции, соотношений простого и сложного, большого и малого, вечности и преходящего мгновения – в этом философский пласт. Душа событий – в поисках утерянного рая, Эдема, острого дефицита простой человеческой радости. И когда эта радость приходит – то ли в виде бутылки «Абсолюта-цитрона», то ли в виде нежданных приключений – сердца героев наполняет до краев благодарность судьбе и Мезенцеву. Охота за ускользающей радостью – вот литературно-новаторский, эстетический пласт. Эстетика «Жабьего лета» сложнее, новее, глубже обычной эстетики мезениады. Если в большинстве произведений о Мезенцеве мы встречаем эстетику барскую, элитарную, преодолевающую эстетику социалистического реализма, то в «Жабьем лете» идет эстетика нового века, снявшая и преодолевшая барство, эстетика «опрощения», возврата от высот человеческой цивилизации и знаний, от чопорного этикета к природе, цельности и простоте.
Вообще эта цельность, целостность, неразделимость образов – отличительная черта всех характеров «Жабьего лета». Не может возникнуть вопросов по уместности той или другой детали, даже каждая мельчайшая мелочь вписывается в портрет личностей. Почему Мезенцев дымит «сигаретами с ментолом», почему таксист Забир, подобно евангельскому мытарю, бросает все и идет к неведомому, почему пьют именно «Абсолют-цитрон» а не просто «Абсолют» – и т. д и т. п. – ни о чем не спросишь с придиркой, всему свое место и свое лыко в строку. Более того, контекст таков, что всякая мелочь и не могла бы быть иной, не могла бы, будучи измененной, встать на свое место, как в сложной головоломке.
Стихия потопа, свойственная шумерской мифологии, библейскому символизму, своду древних индейских преданий, разворачивается и у Шарипова в эпической, надсобытийной ипостаси. Стихия вод, свирепых в первозданности, и человеческий (не божий!) дух, носящийся над водами – поле для бесконечных ассоциаций и символизмов. Борьба с водой – первая ступень к преодолению себя и хаоса, становление человека из того безвольного, забитого и несчастного грызуна, каким были герои до Мезенцева.