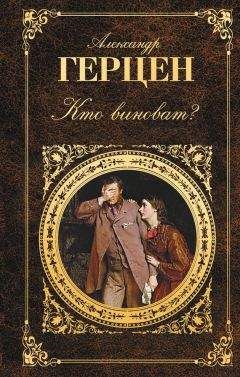быть смешнее и нелепее всего этого… а есть роль смешнее, именно революционеров.
Правительства, сколачивающие единства и сортирующие людей и области по породам не для составления родственных групп, а для образования сильных, единоплеменных государств, знают по крайней мере, что делают; но помогающие им, если не руками, то криком и рукоплесканиями, революционеры и эмигранты – понимают ли они, что творят?
В этом-то бессмыслии и заключается одна из тайн той хаотической путаницы в голове современного человека, в которой он живет. Старым умам, в их логической лени, легче убивать других и быть ими убитыми, чем дать себе отчет о том, что они делают, легче верить в знамя, чем разобрать, что за войско за ними.
Они мечтали о свободе, равенстве и братстве, ими взбудоражили умы, но дать их не умели и не могли: «Нельзя же все вдруг да разом, и Рим не в один день был построен», а потому, для постепенности, они помирились с реакцией на том, что, вместо свободы лица, будет свобода государства, национальная независимость, словом, та свобода, которой искони же пользуется Россия и Персия. Все шаг вперед. Только жаль, что вместо равенства будет племенное различие и вместо братства – ненависть народов, сведенных на естественные границы.
В 1848 году реакция явилась реакцией, она обещала порядок, т. е. полицию, и порядок, т. е. полицейский, она восстановила. Но лет в десять смирительный дом без развлеченья надоел, бесплодное, отрицательное знамя полицейского отпора и благоустройства износилось. И вот мало-помалу начало показываться новое, как бы это сказать, земноводное, амфибическое знамя; оно водрузилось между реакцией и революцией, так что вместе принадлежало той и другой стороне, как Косидьер – порядку и беспорядку. Освобождение национальностей от чужеземного ига, никак не от своего, сделалось общим бульваром враждебных начал.
Лопнувшие гранаты Орсини возвестили новую эпоху, и с тех пор пошли всякие чудеса: латинский мир в Мексике, австро-прусский в Дании, Пруссо-Австрия друг в друге, завоевание Венеции поражением Италии на суше и на море, Франция, укрепляющая против себя рейнскую границу, присоединение пол-Германии к Пруссии – к государству без отечества и которое должно бы было первое распуститься в немецкое gesammtes Vaterland [285].
И, как всегда бывает, возле крупных событий несутся в какой-то неистовой «пляске смерти»… личности, случайности, подробности, от которых волос становится дыбом.
Возьмите хоть эту женщину, переплывающую океан, чтоб спасти поддельную корону своего мужа, которую она принимает за настоящую латинскую. Родной брат не дает ей наследства отца, единственный покровитель пожимает плечами и показывает ей статуи Кановы; она падает в обморок, и когда раскрывает глаза, перед ней стоит он с стаканом воды, и она, уже полуповрежденная, с криком: «Меня хотят отравить!» бежит вон, бежит к папе. В Ватикане встречаются эти два бессилия, эти две лжи. Старик, которому скоро нечего будет благословлять «ни в городе, ни в вселенной», видя у ног своих полуразвенчанную, верующую в него женщину, приходит в бешенство. Она держит его за сутану и просит чуда, – грубый старик отталкивает ее, осыпает бранью, чтоб скрыть, что у него нет чудотворной силы. Совсем сумасшедшую, ее везут из Ватикана, а она шепчет: «Меня хотят отравить».
Около выжившего из ума старика и безумной летят осколки всевозможных корон, больших и малых, увлекая с собой и другую стародавность, другую подагру, которую не могут поддержать ни чахлые эрцгерцоги, ни жирные монсиньоры.
На расчищенном месте ставятся на зиму военные бараки. На этих биваках будет продолжаться история.
Все рассортировано по зоологии и признано по национальностям; одна заштатная Австрия отстала, не зная, какую кокарду прицепить к надтреснутой короне – славянскую, немецкую или венгерскую. Догадаться, что она прежде всего федерация и что она только путем федерации может воскреснуть, не трудно, но недостает мозгов.
Этот акт финала сыгран превосходно, быстро, отчетливо, с поразительным ensembl’eм.
Остались кой-какие «слабости», до которых не коснулись и которым предоставили роль маленьких зверьков, сажаемых в львиную клетку для обнаружения великодушия «царя зверей».
…О, Ромье! Забытый Ромье, как он был прав, проповедуя необходимость противоставить, как плотину, напору социальных волн национальные вопросы!
Но великодушие великодушием, надобно же знать и меру. До сих пор один наружный порядок был возможен… его подтачивали тысячи подземных кротов, его подмывали тысячи подземных ручьев. Что сделаешь, пока рядом с вольными типографиями есть железные дороги, пока легкость передвижения и трудность преследования за границей помогают друг другу. Год тому назад парижские студенты ездили вместе с немецкими в Льеж, а в нынешнем французские и немецкие работники сходились на совещание с английскими и швейцарскими в Женеве. Простая логика говорит, что Франция и Пруссия не могут, не должны терпеть на европейском континенте без явной опасности для себя, без вопиющей непоследовательности, – терпеть на ином основании республик или свободных государств, как терпелась безгласная республика Сан-Марино и оперная Валь д’Андоре…
…Тут поневоле приходит на ум так сильно грешащая против национальной сортировки молитва:
Gott protège la Svizzera! [286]
Да, Швейцарии жаль, истинно, глубоко жаль!
Трудно, больно себе представить, что вековая, готическая свобода изгонится из ее ущелий, с ее вершин, что на Альпах будут развеваться прусские флаги и трехцветное знамя французов. А с другой стороны, так ясно, что подобные противоречия, при огромном неравенстве, рядом существовать не могут. Все эти клочки свободных государств, терпимые, как игорные и публичные домы, по разным соображениям, по разным снисхождениям, – то как лайка между двумя камнями, то из боязни, чтоб другая рука не протянулась за своим паем, – утратили свое право на слабость, свою привилегию на край гибели. Никаких соображений, никаких уважений не осталось. Франция и Пруссия до того сильны, что они остановились: Франция не взяла берегов Рейна, Пруссия не добрала всей Саксонии, – все равно, все божье да их – нынче не взято, завтра можно взять.
Один кусок не по челюстям – Англия. Недаром Франция так рвется через канал… привести в порядок ненавистную страну с ее ненавистным богатством…
Англия поблагоденствует еще: в ней будет уже не всемирная выставка, а всемирный склад всего, до чего доработалась цивилизация; в ней действительно увенчается и пышно развернется последняя фаза средневековой жизни, свободы, собственности. Все это до тех пор, пока туго понимающий, но понимающий работник выучит по складам, но твердо такие простые правила, как «Мало Habeas corpus’a, надобно еще кусок хлеба», и французскую комментарию к ней в английском переводе: «У кого есть дубина, у того есть хлеб!» [287]
…Да, смертельно жаль Швейцарии; ее недостатки, ее грехи мы знаем; но