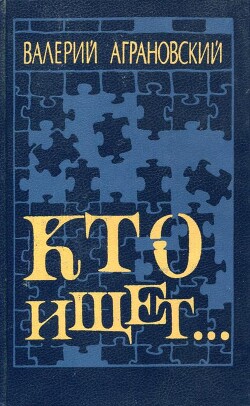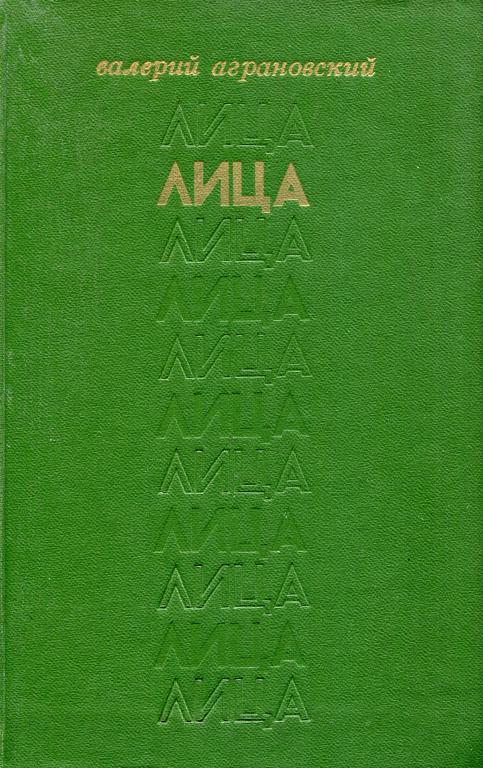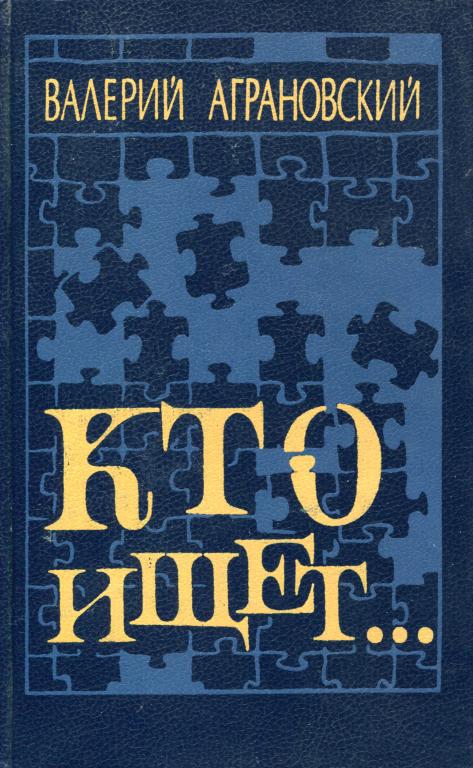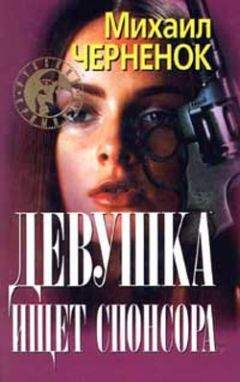Я, кажется, догадываюсь почему: как бы категорично люди ни оценивали своего начальника, как бы плохо к нему ни относились, они подсознательно чувствовали, что его поведение просто не может быть иным. В самом деле: Игнатьев, случайно и незаслуженно оказавшись в кресле руководителя станции, был вынужден постоянно защищать от окружающих свое право ими командовать, уж коли это право ему вручили. Что касается арсенала средств, то угроза, посулы, интриги, шантаж — тоже не им придуманы.
На станции уповали на то, что наступит время, когда Игнатьева заберут в Областной. Этот слух родился с полгода назад, он отражал желание, а не действительность, но мы знаем много случаев, когда слухи, специально пущенные, как бы материализуются, поскольку обладают совершенно непостижимой, но весьма существенной организующей силой.
К моменту возвращения Карпова из Областного слух как раз материализовался: на «мерзлотке» стало известно, что директор института Мыло, выступив на последнем ученом совете, сказал, что станция, возглавляемая Игнатьевым, последнее время демонстрирует зрелость, и дирекция подумывает о лучшем использовании Антона Васильевича как специалиста и организатора. Марина Григо, узнав эту новость, отправилась к Игнатьеву в кабинет и сказала: «Я слышала, вы собираете вещи?» Обычно в своем кабинете Антон Васильевич говорил собеседнику «ты», но мог и «вы» — в зависимости от ситуации, тональности разговора и затронутой темы. Он вообще варьировал эти местоимения, полагая, что в пивной, например, можно любому «тыкнуть», на ученом совете следует «выкать», а если разговор о женщинах, спокойно «тычь» кому угодно. Как камертон чувствуя отношение собеседника к своей персоне, Игнатьев иногда начинал фразу с «вы», в середине, заметив к себе расположение, переходил на «ты», а в конце, сделав новую поправку, съезжал на «выканье». «Эх, скажу я вам, хе-хе, такая жизнь пошла! Точно? Тебя вот встретил и подумал: хорошо иметь дело с приличным человеком, вроде вас!» — примерно нечто похожее сказал он мне через два дня после знакомства.
Я испытывал к нему сложное чувство, и однажды после монолога Игнатьева, в котором он выговорился до конца, эта сложность не только не уменьшилась, но, пожалуй, утроилась. К монологу я еще вернусь, предоставив читателю возможность самому разобраться в своем отношении к Антону Васильевичу.
Из всех мэнээсов он звал по имени-отчеству одного Карпова. Марине Григо сказал: «Это почему же вещи собирать?» — «Не знаю, Антон Васильевич, — ответила Марина подчеркнуто ровно, без панибратства и без заискивания, как говорила с ним всегда, хотя он своим тонким слухом все же улавливал неуважительные интонации. — Народ говорит, будто вас то ли снимать собираются, то ли переводить в институт на повышение». — «Снимать, говоришь? — сказал Игнатьев, потом снял «мартышкины» очки, подул на них, протер носовым платком, снова надел и добавил с достоинством: — Вы думайте, что говорите, товарищ Григо! А повышение, между прочим, мне бы не повредило!»
Вот тут-то и подоспела злополучная история с карповским отпуском.
12. ИДЕМ НА «ВЫ», АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ!
Позже Игнатьев представлял картину так, будто все остальное было делом рук одного Карпова, актом его личной мести. Я же думаю, здесь возможны два варианта: или Карпов использовал уже созревшее недовольство мэнээсов в собственных целях, или примкнул к ним, когда увидел, что дела его плохи. И в том и в другом случае фундаментом была гнетущая атмосфера на станции, искусственно создавать которую никому не пришлось. Карпов оказался человеком, всего лишь столкнувшим с горы первый камень, который и вызвал лавину: ему принадлежит идея письма.
После скоропостижного вызова Вадима в Областной для «накачки» Юрий Карпов созвал у себя в комнате экстренное совещание. Если бы они вели протокол, там было бы написано: «Присутствовали: Карпов, Гурышев, Григо. Слушали: сообщение Карпова о том, что институт намерен в ближайшее время забрать Игнатьева со станции, дать ему институтскую лабораторию и квартиру в Областном. Обсудили: предложение Карпова немедленно написать директору института подробное разоблачительное письмо о делах Игнатьева и истинных порядках на станции. Постановили: письмо написать».
Карпова наконец прорвало. Он произнес короткую речь, смысл которой заключался в том, что «просто так» Игнатьева отпускать нельзя. Он загубил один коллектив, загубит теперь другой, и надо предупредить руководство, с кем оно имеет дело. «Свинству должен быть предел», — сказал Карпов. Когда-то раньше Марина тоже думала написать письмо в Москву какому-нибудь высокому начальству, теперь же склонилась к мнению Карпова: ведь директор института просто не в курсе дела, от него тщательно скрываются порядки на станции, и надо открыть ему глаза.
Боже, сколько раз и при скольких различных ситуациях мы, недалеко уходя от своих родителей и родителей наших родителей, исходили из наивного предположения, что Сам не знает, потому и получается так плохо, а вот узнает, и сразу станет хорошо, — в то время когда это «плохо» от Самого-то и происходит!
Конечно, думали мэнээсы, просто убрать Игнатьева — мало, надо сделать его уход назидательным уроком для Диарова и «ему подобных», и только тогда на станции окажется возможной правильная организация труда, появится желанная самостоятельность у мэнээсов и возникнут добрые человеческие отношения. Ну прямо «Город солнца» Кампанеллы!
— Идем на вы, Антон Васильевич! — воскликнула Марина, но Карпов сухо ее предостерег:
— Никаких «на вы»! С ума сошла! О письме ни слова Игнатьеву!
— Да, но…
— Ты просто шляпа, — вставил Гурышев, обратившись к Марине. — Юрка хочет сказать, что его нужно брать теплым, в постели!
— Но…
Карпов все же был авторитетнее Григо: обошлись без объявления войны. Письмо писали поздно ночью. Перед этим сходили в поселок на почту и позвонили Рыкчуну в Областной, чтобы заручиться его поддержкой. С ним говорила Григо, она коротко изложила суть дела и закончила словами:
— Ты с нами?
— Погоди, — сказал Рыкчун, — у меня в номере люди, сейчас их выставлю. — Потом была пауза, и наконец вновь послышался голос Вадима: — Маринка! Слышишь? Пишите! Я — за! Только подробно, ничего не упускайте! И предупредите Мыло телеграммой, а то письмо может опоздать! Поняла?
Был март, тундра в эту пору окрашивалась в желто-красный цвет от знаменитого ерника. Под ногами у мэнээсов, когда они возвращались из поселка на станцию, были карликовые березы с вершок высотой. Мэнээсы шли, и им казалось, будто они летят на самолете и высота уменьшает обычный березовый рост. Латинское название карликов — «Betula papa», и Марина всю дорогу восклицала: «Ой, бетуля папа! Ой, бетуля мама!»
Она впервые была по-настоящему счастлива.
13. ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Рано утром следующего дня Диаров позвонил Игнатьеву и сообщил ему, что мэнээсы «затевают дело», хотят «подложить ему козу» и пусть он будет осторожней.
— Какую козу? — не понял со сна Игнатьев.
— Письмо! Глупец! — прямым текстом орал Диаров. — Они сидят у тебя под носом, пишут на тебя жалобу, собираются давать телеграмму Мыло, а я его из Областного об этом предупреждаю! Не болван?!
— Какую телеграмму?
— Протри глаза, бюрократ! — кричал Диаров.
Игнатьев наконец понял. Он быстро оделся, но что делать дальше — не знал. Сообразил только, что возникла какая-то угроза его благополучию и, если Диаров его об этом предупреждает, он, следовательно, будет за него.
Для мэнээсов утренний звонок Диарова и все, что ему предшествовало, до поры до времени оставалось в тайне. Информированность шефа даже читателю покажется детективной, хотя ларчик открывается просто: Рыкчун!
Он поперхнулся от негодования и злости, когда услышал в телефонную трубку слова Григо. Писать на Игнатьева жалобу?! В тот момент, когда он покидает станцию и переводится в Областной? Когда у Рыкчуна кончаются с ним всякие счеты, а подсидка теряет свой изначальный смысл? Когда Рыкчун без пяти минут начальник?! Затевать бузу по поводу какой-то демократии, каких-то порядков на станции и какой-то науки? Да они что, с ума посходили? Перекреститься надо, дуракам, и не шуметь, не делать волн, не пугать институтское руководство, не «задерживать движение»!