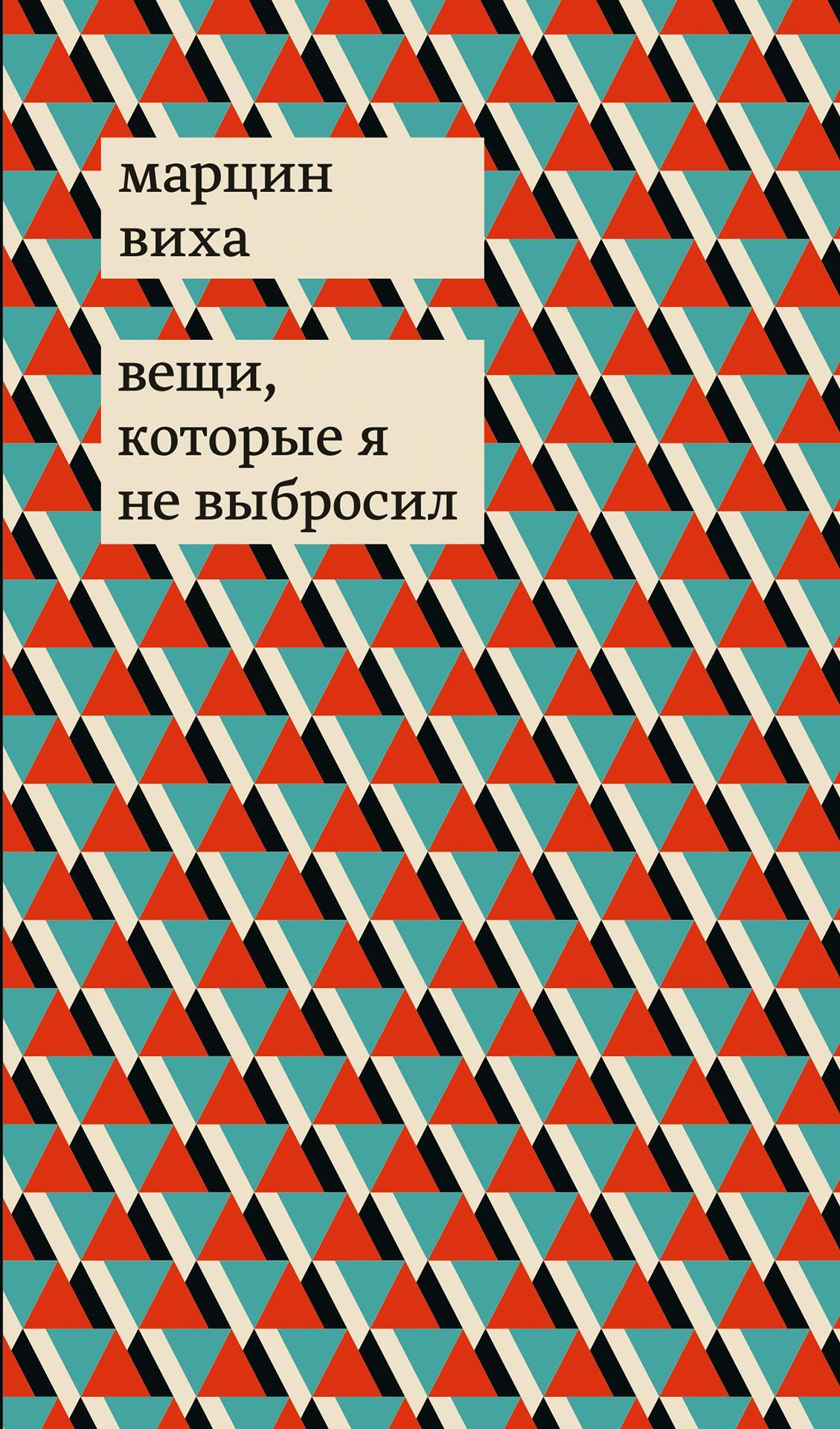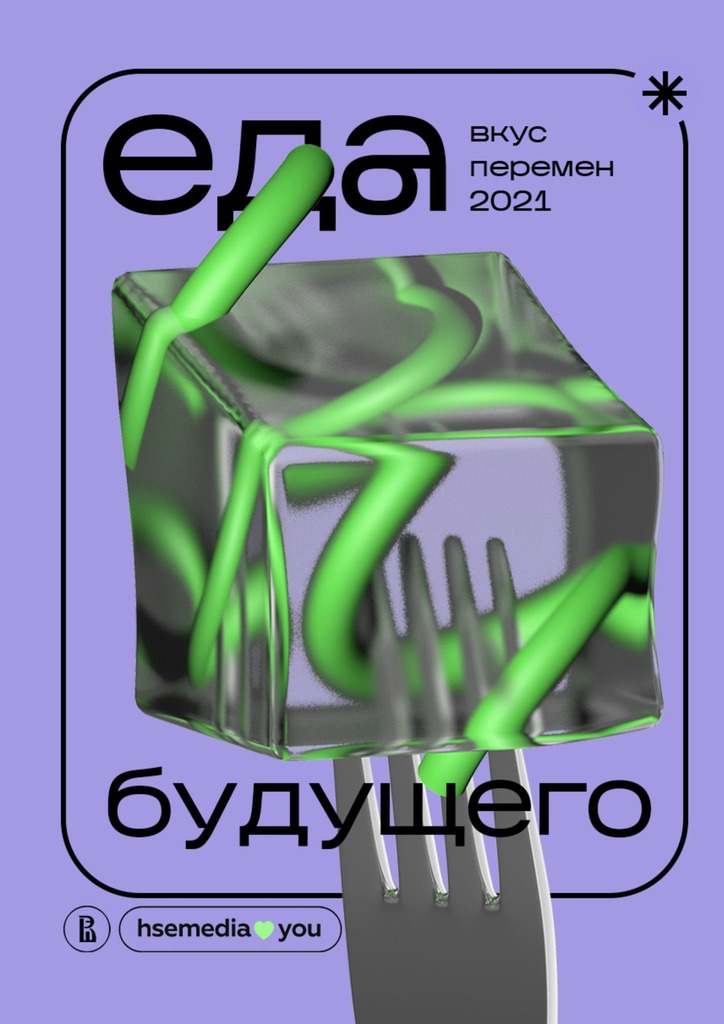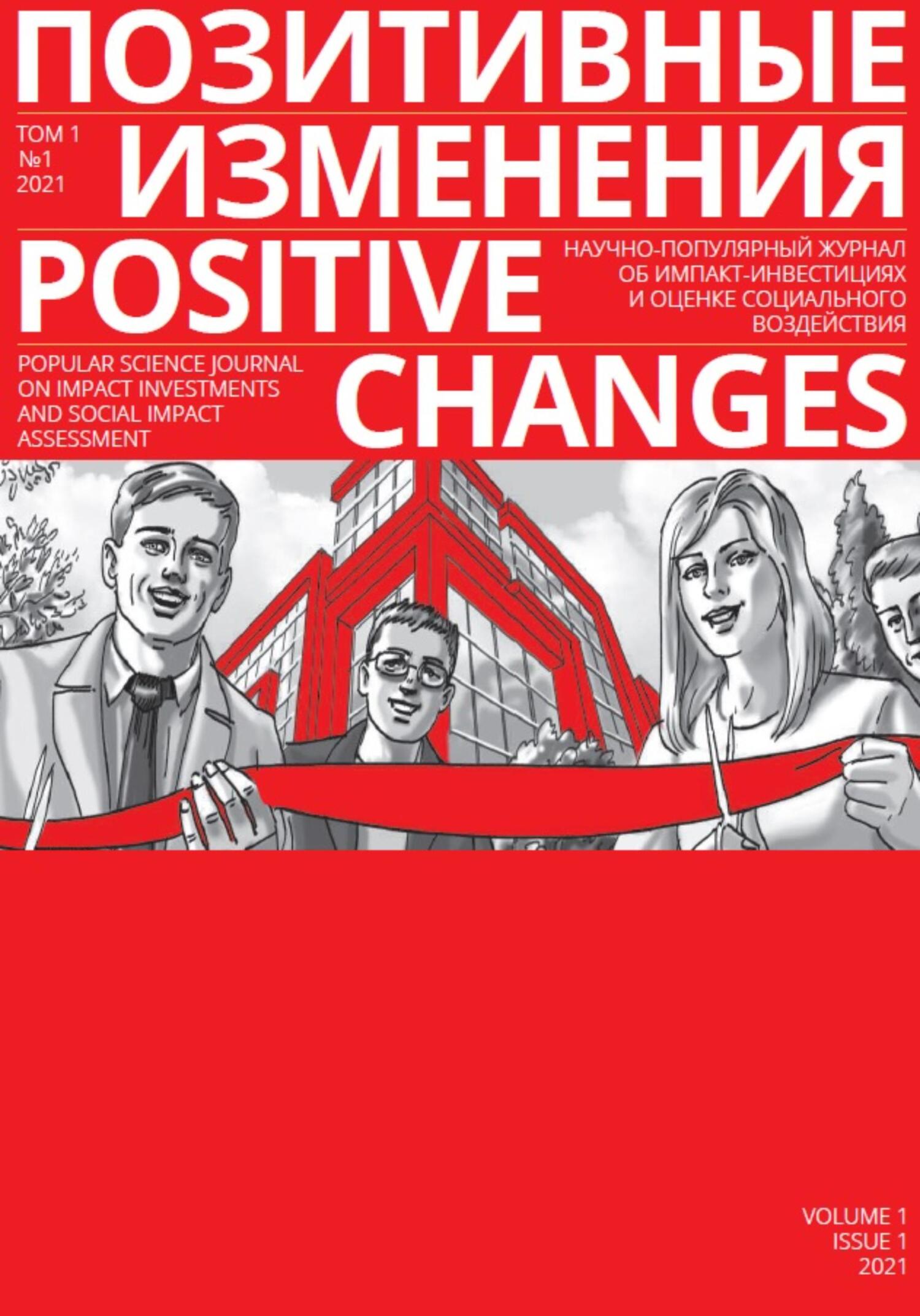причастием» и бумажный цыпленок. Забавно было бы прийти домой и сказать: «Смотри, я купил на почте книжку канадской нобелевской лауреатки».
– Какой там номер счета-то? И почему быдгощский?
– Не знаю, но моя мама ежемесячно платила вашей фирме семнадцать злотых, – отвечаю я дерзко.
– Может, она выплачивала кредит через «Почта-банк»?
– Не выплачивала.
– Откуда вы знаете?
Я пытаюсь вообразить, как мама тайком берет, а потом выплачивает кредит в «Почта-банке» Быдгоща.
Слышится ропот очереди. Люди хотят купить просроченные пасхальные открытки или оплатить счета. Они начинают нервничать.
Поднимаю взгляд на сотрудницу «Польской почты».
– Пожалуйста, не говорите со мной таким тоном.
Это момент истины. Минута, о которой писал поэт Кавафис:
Для некоторых наступает день,
когда они говорят или великое ДА,
или великое НЕТ (59).
Сотруднице почты следует пересмотреть свою стратегию. Потому что до сих пор ее «нет» было маленьким, рутинным «нет». «Нет», которое произносится с расчетом: а вдруг получится? А вдруг я потеряю интерес и исчезну вместе со свидетельством о смерти и историей платежей?
Первое «нет» – это панадол. Чай с малиной. Надежда, что как-нибудь само пройдет. Рассосется. Уладится. Поспешный кивок, неразборчивое одобрительное мычание, едва уловимое движение век могут расцениваться как соглашение, договор с дьяволом, скрепленный синей ручкой. Электронная подпись, круглая печать. И – конец.
– Пожалуйста, не говорите со мной таким тоном. – Я надуваю горло и распускаю перья.
Как в танце, ритмично и плавно мы приближаемся к пункту, именуемому «Я На Вас Не Кричу».
– Пожалуйста, не кричите на меня.
– Молодой человек, я на вас не кричу.
– Именно что кричите.
– Это вы кричите. Кричать будете дома на жену, а не в почтовом отделении.
– Он кричит, – поддакивает хор посетителей. – А людям некогда.
– Она кричит, – включается хор посетителей, у которых талоны в другое окошко.
Рубеж еще не пройден. Мы стоим на развилке. Один путь ведет к «позовите начальника – да пожалуйста – я напишу жалобу – пишите сколько угодно – и напишу» и отчаянным попыткам хлопнуть дверью.
Но мы еще можем пойти по пути деэскалации.
– Я говорю нормально, вам показалось, – сообщает сотрудница примирительно.
– Конечно, – соглашаюсь. – Так что с абонементом?
Шкрябанье, клацанье, шмяк-бряк – типсы скребутся почти дружелюбно.
– Может, это за радио?
Напряжение спадает. Корабли меняют курс. Самолеты возвращаются на базу. Очередь вздыхает.
Государства исчезают. Священное право частной собственности переходит из рук в руки. Политиков ждут государственный трибунал или Гаагский суд. Только сотрудницы почты вечны. Они могущественнее премьеров, президентов и секретарей. Потому что их суперсила – в равнодушии.
Они могут воспылать симпатией или ощетиниться от неприязни. Но это только видимость. Они эволюционируют. Мы – вид, обреченный на вымирание. Жирные птицы моа. Грузные представители мегафауны и доисторический лес.
«Помолвленная пара формирует надежный оборонительный союз – каждый партнер преданнейшим образом поддерживает другого. (…) Неизменно пребывая в позах наивысшего самовосхваления, редко отлучаясь даже на расстояние ярда друг от друга, наша чета совершает свой жизненный путь» (Конрад Лоуренц (60)).
Хороший скандал требует сноровки. Хороший скандал требует осторожности.
Не повышать голос. Не использовать аргументы, которые можно обратить против нас. Не бросаться угрозами, которые мы не сможем исполнить. Умело разыгрывать свои карты, даже когда они не ахти.
Мама тренировалась на почте. В офисе. В школе. В жилищном управлении. Оттачивала мастерство на продавщицах. Консультантах. Сотрудницах учреждений. Администраторах. Учительницах. Чиновниках.
Скандалы были разновидностью тренинга. Бесконечными военными играми. Она засекала, сколько времени уходит на реакцию. Подбирала идеальную тактику.
Разведка боем.
Помню ее на седьмой день военного положения (61).
– Я хочу знать, где мой брат. Его забрали из дома трое гражданских.
– Фамилия? – И через мгновение: – Таких у нас нет.
– Тогда я хочу заявить о похищении брата тремя мужчинами, выдающими себя за сотрудников службы безопасности.
– Я еще разок посмотрю. Как фамилия?
Спустя много месяцев, после очередной амнистии, я слышал, как один из участников тех событий сказал отцу: «С такой женой тебе ничего не страшно». Честное слово. Так и сказал.
Лучшие скандалы они устраивали вдвоем. Мама действовала эмоционально. Вся отдавалась процессу, готовая в любой момент закатить истерику. Отец оставался отстраненным. Вместе они достигали невиданных высот. Мама шла в атаку. Отец защищал тылы. Сохраняя вид человека, которого происходящее не касается, он готов был включиться в действие и оказать помощь, высказав альтернативное мнение якобы незаинтересованной стороны.
Они не были склочниками. Не отличались сварливыми характерами. Шагали по жизни, как пара бесстрашных галок. Никого не задирая, чуть нахохлившись.
Я так не умею. Сперва выжидаю, заискиваю, фальшиво улыбаясь, потом взрываюсь. Мои скандалы начинаются слишком поздно и заходят слишком далеко. Мне приходится извиняться. Мириться. В смущении ретироваться, бормоча что-то невразумительное.
А ведь вначале я подавал надежды, делая первые шаги в дуэте с мамой. Мой самый большой успех случился в раннем детстве.
– Закрыто, – сказала сотрудница учреждения.
– Как это – закрыто? – перешла в наступление мама.
– А вот так.
– Тогда почему вы тут сидите?
– Для красоты! – отрезала сотрудница.
И тут пробил мой звездный час. Пусть я и был от горшка два вершка, но свой вердикт вынес:
– Сомнительное украшение.
Мама была на седьмом небе от счастья. Тем не менее она сомневалась, что на этом поприще мне удастся снискать славу.
– В конце концов ты потеряешь хватку, – предупредила она.
Отец, большой любитель ползучих насекомых, многоножек и червяков, как-то показал мне мохнатую гусеницу.
– Она говорит птицам: «Хорошенько подумай, прежде чем меня съесть», – объяснил он.
У гусеницы не было ни шипов, ни панциря. Она не надувалась, как жаба. Не расправляла крылья. Ограничивалась сдержанным предупреждением: «Попробуй, съешь меня – я буду щекотать тебе горло».
Вот в чем секрет. Нужно быть бесстрашной гусеницей. Веселой, уверенной в себе гусеницей. Не выходить из роли. Не нахохливаться. Не жалеть себя.
– Лучше оставь меня в покое. Даже не пытайся, потому что я застряну у тебя в горле. Кхе-кхе, кхе-е-е!
Одним летом в Казимеже появился инструк-тор верховой езды. Он занял позиции у земляного вала.
В течение астрономического часа конь апатично ходил кругами на привязи. На протяжении шестидесяти кругов какой-нибудь счастливчик раскачивался на лошадиной спине, пока очередь из желающих напряженно следила за ним и поглядывала на часы.
Мне удалось уговорить маму. Я вскарабкался наверх и понял, что верховая езда – это борьба за выживание. Тем временем на другом конце корды хозяин пел дифирамбы моему необыкновенному таланту.
Нет на свете такого преподавателя керамики, тренера по фехтованию или теннису,