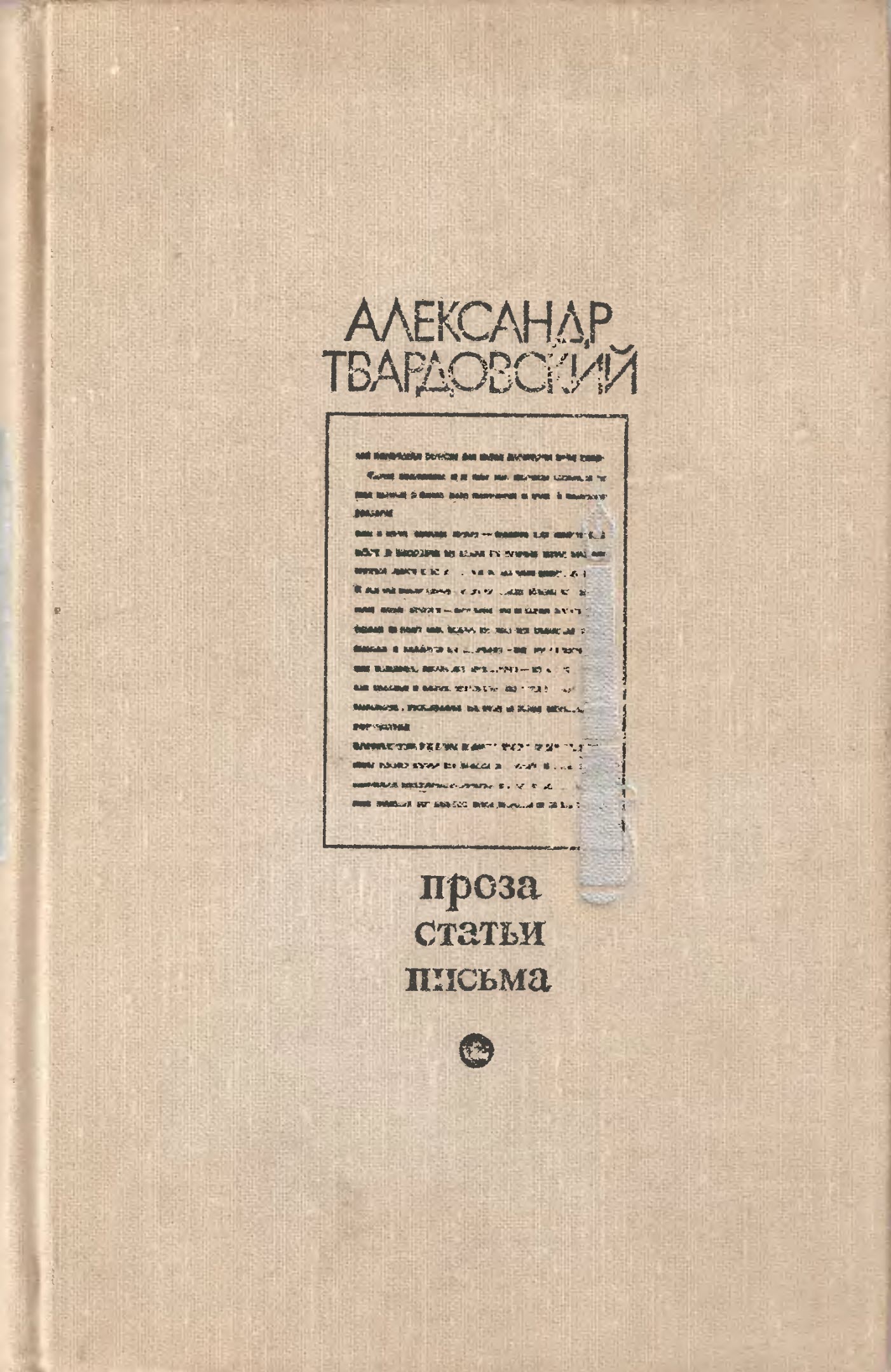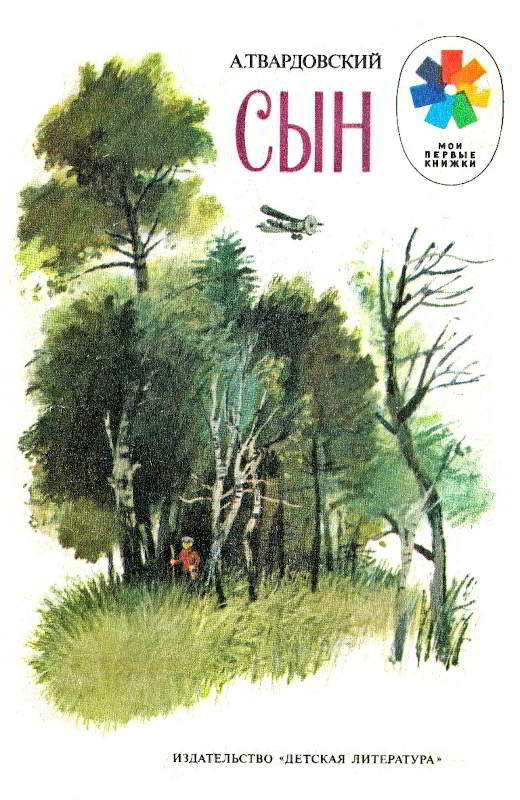мог бы все это «обосновать». А я один, признаться тебе, чувствую, что это как-то надо обосновать, а, кроме общих слов, ничего не могу.
— А ты общих слов — не надо!
— Ну…подверженность известной части колхозников кулацким, то есть собственническим, влияниям…
— Дальше…
— Дальше — стремление этой части удержать под собой в условиях колхоза свою единоличную, хоть небольшую, но доходную статейку.
— Так. Дальше….
— Что ж дальше? Я по глазам вижу, что ты знаешь, в чем тут дело. Говори.
— Вот это ты очень ошибаешься. Лучше тебя здесь никто не может знать, в чем дело. А для меня только интересно, в чем тут дело, поскольку это новый случай. Говори.
Брудный вынул из пиджачного карманчика измятую папиросу и стал ее склеивать, сняв кусочек тонкой бумажки с мундштука папиросы.
Я сказал:
— Самое трудное здесь то, что передо мной не кулаки, а самые настоящие середняки, показавшие себя на работе и в поведении прекрасными колхозниками. И даже бедняки!
— А ты найди мне теперь такого кулака, который выступает на сходках: «Долой колхозы!» — и бегает у тебя под окном с обрезом. Спичка есть? Нету?.. Ну, и что ж ты думаешь делать?
— Думаю провести обобществление хотя бы части этих огородов.
— Правильно. Но как же ты лишишь его доходной статейки, как ты сказал? Статейка-то доходная?
— Доходная.
— А чем она доходная?
— А тем, что у нас у всех свои коровы. А коров можно хорошо кормить и доить…
— Так-так-так!..
— А народ у нас знающий толк в молочном деле. Бабы с сепаратором обращаться умеют. У Ерофеева был сепаратор, все ходили к нему молоко перегонять.
— Ну-ну-ну!..
— Ерофеев и брюквы этой сеял по две десятины.
— Конечно, сеял! — радостно захохотал Брудный и встал, опираясь животом на край стола: —Дай теперь мне сказать. Перебивай меня, когда я скажу не так. Первое. Ты не учел такой экономической возможности в Лыскове, как молочная сторона. Ты не посеял двадцатитридцати га брюквы! Колхозной! Правильно?
— Правильно.
— А лысковцы не могли ее не учесть, поскольку они знают, что такое брюква, и поскольку ерофеевское молочное «культурное» и всякое такое хозяйство, как я о нем наслышался, является для твоих лысковцев (или лучше сказать — являлось) образцом хорошего доходного хозяйства. И вот против возможности иметь такое хозяйство, хотя бы в урезаном размере, не могли удержаться твои распрекрасные лысковцы. Правильно?
— Правильно.
— А как ты думаешь, в чем сейчас должен быть поворот от таких «огородных» молочных хозяйств к колхозному молочному производству?
— В том, чтобы обобществить эти огороды.
— А потом?
— А потом… Погоди, куда гнешь?
— Стой! Больше ни слова. Приступай к делу, и ты. увидишь, что не обойдешься без этого самого. Да и брюкву тогда зачем обобществлять? И не обобществишь ты ее без того. Тебе бабы скажут: «А чем мы будем своих коров кормить?» Тут, брат, одно за другое цепляется.
— А про что ты говоришь? — прикинулся я, хотя прекрасно понимал, о чем идет речь.
— Про то самое, про что ты думаешь.
— Я не знаю.
— Узнаешь! Брюкву станешь обобществлять — узнаешь.
— Ты мне экивоками не говори. Ты должен мне дать практические указания.
— Не могу тебе давать практических указаний, пока ты не дашь мне практических соображений. Вот, примерно, сказал бы ты: считаю возможным и нужным обобществить эту брюкву на предмет кормления расширенного колхозного стада, расширенного за счет обобществления вторых коров и создания, так сказать, молочнотоварной фермы. А районный комитет должен тебе сказать, можешь ли ты это сделать в условиях Лыскова. И мы тебе говорим: можешь в условиях Лыскова, где выгодность организованного сбыта молока доказать легче, чем где-нибудь еще, где люди и сепаратора не видели.
— Понятно.
18 мая
Заговорившись, мы с Брудным вместе пошли и обедать. Магомета я оставил в конюшне райисполкома, откуда даже в столовой я слышал его заглушенное стенами и шумом поселка ржанье.
Перед обедом Брудный сказал, склоняясь с лукавой улыбкой над столом и как бы подмигивая мне:
— А я про тебя слыхал, что ты водочку пьешь.
— От кого? Что?
— Правда, от классового врага, от Ерофеева (он же и ко мне приходил, когда его исключили), но слыхал…
— Ах, да! — засмеялся я и рассказал про случай с Андреем Кузьмичом, когда я выпил полстакана водки. — Только как он мог узнать про это?
— Он, брат, видел тебя, когда ты ночью шел в бабской шубе и как ты со своим приятелем целовался на прощанье… Вот, брат!
Меня всего передернуло. Было особенно неприятно, что Ерофеев все время знал об этом случае. Но если бы это была неправда, Ерофеев при всем желании все-таки не сказал бы об этом Брудному, не использовал бы этого момента. Ерофееву тоже нужна «правда», — тогда он смелее действует.
— Ничего! — кивнул мне Брудный, словно я опасался чего-нибудь. — Ничего! Я сам — я прямо тебе скажу, — хластанул он, — я могу выпить. Вот с тобой бы я выпил. Как ты?..
— Нет, я бы с тобой не выпил.
— Почему?
— А нам с тобой и так хорошо.
— Верно! — захохотал Брудный. — Но если выпить, то будет еще лучше.
— Нет. Тут, брат, знаешь, есть разница между тобой и Андреем Кузьмичом. Андрей Кузьмич угостил меня, как человек, который еще думает, что, любя и уважая меня, ничем другим не может подчеркнуть свою любовь, уважение и полную солидарность со мной, как только совместной выпивкой. А с тебя можно, слава богу, и большего спросить.
— Одним словом, у нас с тобой складчины не будет! — засмеялся Брудный и молодцевато подхватил тарелку из рук подавальщицы.
* * *
Я выехал из поселка, когда солнце было на последней четверти пути к закату. В сумерки, подъезжая к Лыскову, я едва удерживал Магомета в ногах: он рвался к лошадям, уже ходившим в ночном. На повороте к околице стояла, опираясь на палку, фигура, похожая в темноте на копну сена.
— Кто такой?
— Я.
Голос Милованова.
— Ты, Григорий?
— Я.
— Здравствуй!
— Здравствуй. Проезжай, не беспокой коней.
— Ладно. А что это — свет в канцелярии?
— Сходка.
— Сход-ка?..
— Да, собрались там….
Милованова я как-то очень давно не видел. Это потому, что он всегда в ночном, а днем отдохнет — и в кузницу. Говорят, что он уже может сделать гвоздь, клец и другую мелочь.
Поставив Магомета, я через сад направился к канцелярии. Изба гудела от голосов и криков. А у окна стояли и