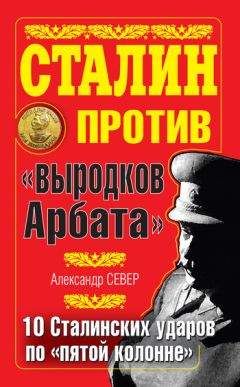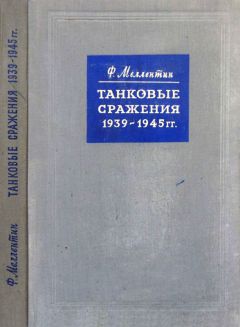Михаил разинул рот. Ничего подобного он в былинах и сказках до сего дня не читал. Конечно, в похабных байках, которые любили травить казаки на привале, было еще больше непристойного, но байки — они и есть байки, в книгах их не печатают. Шкловский, вдохновленный произведенным эффектом, продолжал, смакуя:
— Совершенно ясен прием остранения в широко распространенном образе — мотиве эротической прозы, в которой медведь и другие животные, или черт...— тут Шкловский чему-то улыбнулся и непонятно пояснил,— это другая мотивировка неузнавания... не узнают человека. Вот сказка про мужика, который опалил бок медведю, сломал сороке ногу, а пауку — большой мухе — воткнул в задницу палку. "Паук полетел и сел на то же дерево, где сорока и медведь. Сидят все трое. Приходит к мужу жена, приносит в поле обед. Пообедал муж с женой на чистом воздухе, стал валить ее на пол. Увидал это медведь и говорит сороке с пауком: "Батюшки! мужик опять ково-то хочет нежить". Сорока говорит: "Нет, кому-то ноги хотит ломать". Паук: "Нет, палку в задницу кому-то хотит воткнуть".
Все уже хохотали не скрываясь, как смеются от скабрезных анекдотов. Шкловский лишь иезуитски улыбался сморщенным беззубым ртом.
— На "неузнавании" основаны многие "заветные сказки" Афанасьева. Они, кстати, так и не изданы в России, даже после революции. Это издание, — Шкловский показал книжку, — женевское, на русском языке. Возьмем сказку "Стыдливая барыня". Она основана на неназывании предмета своим именем, на игре в неузнавание. Молодая барыня взяла к себе лакея с условием, чтобы он не говорил ничего похабного. Вот едут они с ним в деревню и видят, как вдоль дороги спаривается разная живность — свиньи, лошади, куры и так далее. Барыня каждый раз спрашивает, что это такое. Молодец отвечает: жеребец свой табун оглядывает, бык попихивает корову на свежую травку, петух курицу от дождя закрывает... Приехали к реке, барыня задумала купаться, позвала с собой лакея. Молодец разделся, а барыня спрашивает: "А у тебя это что такое висит?" "Это конь называется". "А что, он у тебя пьет?" "Пьет, сударыня; нельзя ли попоить в вашем колодце?" "Ну, пусти его..." Вот тут-то он натешился; насилу оба из воды вылезли".
Никто уже не смеялся, каждый думал: "Он что — изде
От всего занятия в голове у Михаила осталась одна мысль, с которой Виктор Борисович и начал свою поразительную лекцию: "Подлец человек!"
В следующую среду на Воздвиженку пришел Брик, а с ним — Лиля Юрьевна. Она молча, положив ногу на ногу, сидела рядом с Осиком, курила и поглядывала на студийцев, на Михаила своими черными, горящими, глубоко запавшими глазами. Когда она прощалась за руку с Михаилом, то вложила в его ладонь записочку, написанную ясным гимназическим почерком: "Станичник! Почему Вы к нам не заходите? Приходите завтра вечером, у меня будет что-то вроде приема. Познакомитесь с интересными, нужными для литератора людьми. Л.Ю.".
Женского общества Михаил не знал давно, с того самого времени, как уехал с Дона, а тут еще Шкловский со своими срамными, вызывающими прилив дурной крови лекциями... Когда сегодня она сунула ему записочку, он почувствовал себя жеребцом-лакеем из гадкой сказочки, которую смаковал Шкловский. "Это конь называется". А Лиля Юрьевна — стало быть, "стыдливая барыня". "Ну, пусти его..." А в самом деле — почему бы не пустить? Сама ведь набивается...
Гэпэушница? Ну и хрен с ней, что гэпэушница. Вася предупредил — и шабаш, спасибо. Что он с ней, откровенничать собирается? "Красный казак" — и вся история. "Прием" его немного смущает. О чем ему там говорить, что толку в этих "нужных людях", если написал он всего один маленький рассказец? Разве что себя показать да на людей посмотреть? И то...
На следующий день Михаил почистился, залатал все прорехи на штанах и гимнастерке, отгладил их утюгом, одолженным у супруги Александра Петровича, и, как стемнело, отправился в Гендриков. Парадная дверь особняка по обычаю того времени была заколочена, и поднимался он по неосвященной черной лестнице. Добравшись до площадки между третьим и четвертым этажами, Михаил услышал сверху музыку, громкие голоса, звон бокалов. Он решил перед тем, как позвонить Брикам, покурить для храбрости. К тому времени Михаил уже завел себе трубку, купленную на первую зарплату в артели каменщиков. Он наощупь набил ее махоркой, зажег спичку и поднес ее было к трубке, как вдруг боковым зрением, цепенея, увидел, что совсем рядом с ним на узкой площадке стоит какой-то здоровенный человек. Михаила враз прошибла холодная испарина. На него страшными глазами глядел... Маяковский, якобы уехавший куда-то. Лицо его показалось Михаилу мокрым. Слезы?! Пламя лизнуло пальцы, он, зашипев, бросил спичку и немного пришел в себя.
— 3-здравствуйте... — сказал он.
Маяковский издал горлом какой-то звук.
— Я вот... за книжкой пришел... Осип Максимович... Лиля Юрьевна... обещали ("Ну же — чья книжка, вспоминай!")... книжка Якобсона...
Михаил замолчал. Маяковский тоже молчал. Они стояли в темноте друг против друга. Михаил сделал над собой героическое усилие и продолжил:
— Но у них... у вас, — с испугом поправился он, — теперь гости, не до меня, наверное. Я лучше пойду.
Маяковский по-прежнему молчал, дышал через рот. Михаил нащупал ногой ступеньку, ведущую вниз, и стал, держась за перила, спускаться.
"Что это все значило?" — думал он, вылетев на улицу. А может быть, этот Маяковский сумасшедший? Едва ли... Михаил видел его лицо секунду-другую, пока горела спичка, но в нем было не безумие, а что-то другое. Вот только что? Страдание... боль... Тут простая мысль пришла ему в голову, что Маяковский ревновал Лилю Юрьевну к ее гостям, в том числе и к нему. И никуда он не уезжал — у них с Лилей Юрьевной, видимо, размолвка, которой она, судя по всему, мало огорчена, а вот Маяковский — наоборот... Скорее всего, он стоит там в темноте, чтобы узнать, кто же из мужчин у нее останется после "приема". И тогда-то он, наверное, явится, как пушкинский Командор. А может быть, и не явится, а наоборот, будет стоять до утра, страшно глядя в темноту... Скажите, пожалуйста, — такая пигалица эта Лиля, а мужики вокруг нее водят хоровод, как кобели вокруг суки! И что в ней такого? Ну, смотрит эдак по-блядски... В постели, наверное, — огонь: худущие, они такие... Но совершенно очевидно, что не это в ней главное, а нечто жутковатое и одновременно влекущее, как в панночке из гоголевского "Вия"...
И тогда, вспомнив Гоголя, он вдруг понял, что: Лиля Юрьевна была похожа на смерть, особенно, когда боковой свет падал на ее лицо, и резче обозначались высоко поднятые скулы, глубже западали темные глазницы. "Ведьма!" Маяковский любит ведьму, а она катается на нем, как панночка на Хоме Бруте. Смутно Михаил помнил, что о чем-то подобном писал и сам Маяковский в ранних поэмах, которые он в свое время читал вполглаза, не особенно сопереживая написанному, ибо кровь и смерть, которые поэт громоздил в этих стихах, не шли ни в какое сравнение с настоящей кровью, от которой в гражданскую порой становились багряными воды Тихого Дона.
Придя домой, Михаил спросил Александра Петровича, нет ли у него Маяковского. Тот, заслышав это имя, поморщился, но, будучи книгочеем, книжку Маяковского, под названием "Все сочиненное", в своей библиотеке имел. Первое, что Михаил прочитал, наугад раскрыв ее, были слова:
Ямами двух могил
вырылись в лице твоем глаза.
Он сидел, потрясенный. Значит, это жуткое сходство своей возлюбленной со смертью не было тайной для поэта? Но, может быть, речь в стихах идет не о Лиле Юрьевне? Он перелистнул страницу, и сомнения исчезли.
А там, где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.
Другая поэма, "Облако в штанах", имела прямое посвящение: "Тебе, Лиля". Свою любимую поэт называл Марией, но ясно было, что это Лиля или абсолютно похожая на нее повадками юная стерва, место которой было в лучшем случае в борделе, а она поселилась в сердце поэта. Любовь зла... С первых же строк Михаил понял, что в поэме, в сущности, описано то, что час назад он сам видел в Гендриковом:
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя неважно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,