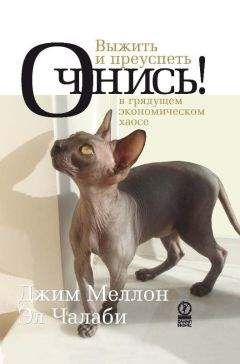Стилевой палитре соответствует эмоциональное разнозвучие романа. Стилистика его - разноязычие, вот, пожалуй, самое примечательное свойство. Можно нанизывать иронические бусинки - про нравы старых улиц, где "чужих" испытывают по заветам старины: "Ему "напихали" - и под глаз, и под дых, и по шее, не тронув только "помидоры". Или: "Они пили портвейн дипломатически - одна бутылка на троих". Когда улыбка у читателя не склеивается, тут, наверно, сарказм: "Девица полулёгкого поведения, в полупрофессию вошла непринуждённо и без раздумий[?] время от времени развлекается тем, что собирается выйти замуж". Непредвзятый читатель это оценит, труднее уловить лиризм, а он - сбережённая в нас человечность. Он, конечно, в музыке повествования. Он и в элегической оглядке на прошлое, в наложении нескольких сюжетных линий на основной тон. Память места, верность ему - для сибиряка это значит много.
Мёрзло Болото, проваливалось само в себя и вспучивалось, а потом и вовсе взбесилось - революция. Уничтожила колокол "эсэсэрия", а после стала отходить, то есть забывать. Горестные символы, узнаваемые и порой ошарашивающие. Горькая ирония не заглушает мелодию породнения: "Чтобы славить Болото и трясины его - до этого надо дожить".
Нынешние залётные "бакланы" наставляют нас: "Чтобы так жить, какими надо быть пентюхами! Бросайте вы это Болото вонючее, шевелите-ка броднями". Ну, знакомо: "Оставь свой край, больной и грешный[?]" Если жизнь дошла до края своей грязи, то одно из двух: либо грязь заставит вернуться к традиционным ценностям, либо... ничего от нас не останется. А на Болоте, где в каждый дом стучалась большая беда, люди хранят осколки старой жизни. И от летаргии памяти снова возвращаются к необходимости жить нормально - любить, и мыслить, и страдать.
Да, тут видится посильное сопротивление провинции обезличивающему центру. Писатели-провинциалы рвутся в Москву - и оказываются отгороженными от реальных проблем простой жизни, от народа своего. Потом гонят игровые романы, с натужным интеллектуализмом, с искусственными сюжетными перипетиями.
"Колокол и Болото" - роман о ликах, лицах, личинах и рожах сибирской истории. Иные ведь пишут сплошь благолепные лики, а за угол вечером выйти опасаются. И в подтекст оседает: сейчас - мерзко, зато в прошлом идиллия. Хуже всего, как предупредил Старец, если "одна гадкая белиберда разведётся вокруг ваших воспоминаний". А что же у Костина - так было, так будет? Или нулевое решение? Болото выпало из ХХ века, "и это безнадёжно хорошо": оно сберегло себя, оно настоящее, и рано или поздно "отступит перед ним Дурь, пронзившая и город, и страну, и мир".
Закрываешь книгу с ощущением: что-то новое и хорошо узнаваемое. Если реализм, то - магический. Не совсем в духе Гарсиа Маркеса, но где-то в этом направлении. Знаю, что испано[?]язычную прозу Костин ценит больше всего. В ХХ веке она стала прорывом провинции в большую литературу.
Александр КАЗАРКИН,
профессор Томского государственного университета
Гуманитарий в обжорном ряду
Гуманитарий в обжорном ряду
ЛИТПРОЗЕКТОР
Вы пойдёте лечить зубы к человеку, чьи познания в стоматологии сводятся к профессиональным байкам, которые ему за кружкой пива травит сосед-дантист? А когда вы сидите в самолёте, хотелось бы вам, чтоб указания пилотам давал "диспетчер", признанный таковым после того, как он посмотрел документальный фильм, посвящённый работе авиадиспетчера? "Что за бред! - скажете вы. - Я ценю свои зубы, и даже более того, я дорожу своей жизнью!" Что ж, вам остаётся только радоваться, что дантист и диспетчер, машинист поезда и прораб - это не творческие профессии. Потому что если бы вы наткнулись на творческого гуманитария, каким его себе - и публике - представляет француз Пьер Байяр, - вам бы не поздоровилось.
Этот достойный человек, по собственному признанию, родился в семье, где читали мало, и сам тоже чтением не увлекался, ибо ему "некогда было этим заниматься". Ныне он преподаёт литературу в университете, и ему "по долгу службы положено рассуждать о книгах", которые во многих случаях он "даже не открывал". Вот такая печальная история: пусть и не с каждым может случиться, но всё ж таки со многими; непрофессионалов везде хватает, а гуманитарная сфера и правда предоставляют больше возможностей для маскировки, чем естественно-научная.
И мы бы не обратили на него внимания - в конце концов это проблема французской образовательной системы, а у нас своих хватает - если бы Пьер Байяр не издал опус "Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали", и в этой книге, переведённой на двадцать пять языков и уже получившей в России громкую рекламу, не принялся доказывать нам, что он, нерадивый читатель, - на самом деле высокоразвитая творческая личность, а люди, привыкшие к вдумчивому чтению, - узколобые, зашоренные индивидуумы, к творчеству не способные.
Так всегда бывает: когда маленькое зло не вытаскиваешь за ушко да на солнышко: оно постепенно растёт и в конце концов объявляет себя добром. Поэтому стоит побороть брезгливость и рассмотреть Байяра внимательно. Тезисы его незамысловаты.
Во-первых, это идея "все лицемерят, когда говорят о прочитанных книгах". Не надо лицемерить! - призывает Байяр. Не следует стесняться! Можно предположить, что он сейчас обоснует необходимость говорить правду: ну, не читал ты сию знаменитую книжицу, нет в этом никакого криминала, да и особого стыда. Но нет, людей, говорящих правду, Байяр называет циниками. Обосновывает он совсем другое: способность притворяться читавшими. Под флагом борьбы с лицемерием он учит более успешному лицемерию (называя его "искусством").
Следующая идея интереснее: неугомонный француз утверждает, что понятие "прочитанная книга" слишком расплывчатое. Вот, например, можно ли назвать "прочитанной" книгу, которую вы только пролистали? А книгу, которую вы читали, но забыли? Касательно пролистывания Байяр уверяет, что не только можно, но именно так и нужно читать, потому что это "самый удачный способ знакомства с книгами: отдать должное всем глубоким идеям, которые в них заложены, а также богатству их содержания, не позволяя себе погрязнуть в деталях". Трудно спорить: пролистывание часто служит первым этапом знакомства с книгой, вслед за которым наступает либо вдумчивое чтение - либо, напротив, отсечение книги за ненадобностью. Но часто ли вам случалось "отдать должное всем (!) глубоким идеям" при беглом проглядывании страниц?
То, что Байяр говорит о забвении, заслуживает развёрнутой цитаты: "В то самое время, пока я читаю, я начинаю забывать то, что прочёл, и процесс этот неизбежен, он длится и достигает когда-нибудь такой точки, где всё выглядит, как будто я никогда и не читал этой книги, и там меня можно приравнять к тому, кто её не прочёл". Истоки такого суждения на самом деле очень просты: Байяр рассматривает чтение как поглощение информации - и даже не всей информации, а последовательности эпизодов. Поглощаешь эпизод - забываешь, поглощаешь - забываешь, так, словно ты Карлсон, пожирающий печенье. Здесь Байяр сознательно упускает из виду, что результат чтения - это не насколько хорошо ты запомнил повествование, а что ты по этому поводу рассудил и почувствовал. Из всего огромного романа можно вынести одну-единственную мысль, поистине важную для читающего, - и это уже будет прочитанный роман. В других местах Байяр не спорит с этим, но утверждает, что для мыслей достаточно не читать, а послушать, что говорят по поводу книги (причём предполагается, что говорить могут те, кто также не читал книгу). Что ж, слушать, что носит ветер, не вредно, вот только зачем тогда вставлять в книгу фразы в духе "Оскар Уайльд считал", "Монтень полагал"[?] Ведь считали и полагали не Монтень с Уайльдом, а те неизвестной компетентности читатели (или нечитатели), на чьи воспоминания о текстах Монтеня и Уайльда опирается [?]Байяр. Но нет, наш французский ниспровергатель не решится написать в своём труде правду: "Одна бабка сказала мне, что Монтень[?]" - ведь правда, по Байяру, цинична, а главное, незначительна.
Значительно лишь одно: твоё, читатель, подсознание. Предполагается, что именно там и гнездятся мощные способности к творчеству, надо только не сдерживать их, дать им волю. Цени себя, выражай себя, будь собой - зачем совершать над собой усилие, когда ты уже и так хорош! Думал ли Фрейд, когда выделял психологические структуры Эго и Супер-Эго, что они будут намеренно подавляться во имя того, чтобы высвободилось Оно? Этим и занимается сегодня поп-культура, к которой мы с полным основанием отнесём рассматриваемую книгу Пьера Байяра.